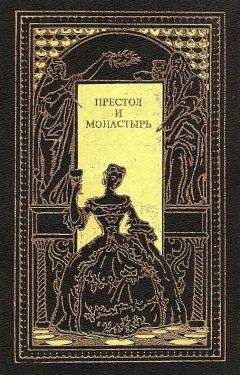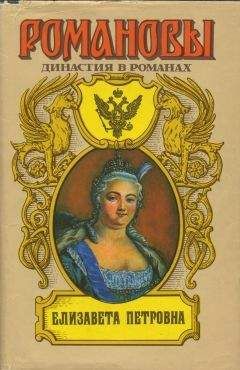А. Сахаров (редактор) - Петр Великий (Том 2)
– Царица моя! Жена моя, Богом данная!
– Жена?! – оглянулась царевна. – А Авдотья?
Голицын вздрогнул.
Взглянув на Василия Васильевича, Софья злобно перекосила лицо. Нос её сморщился; по краям его и над переносицей образовался ряд тёмных выбоинок.
Голицын прямо взглянул царевне в глаза.
– Не поминай про Авдотью! Имени слышать её не могу! Опостылела! Лучше повели к стрельцам выйти погибель принять, нежели адовой пыткой пытать меня, про жену поминаючи!
– Так ли? – ещё недоверчиво, но почти мягко спросила Софья, и, почувствовав прикосновение губ князя к руке, вконец растаяла.
– Так, царица моя! Дай срок, поверишь, прознав, что Авдотья в монастырь на послух заточена!
Софья улыбнулась счастливой улыбкой.
– Погоди ужо! Будешь ты мужем самодержавицы русской, государыни Софьи! – И жадно обняла князя…
Во дворце, под престолом у Спаса, смутьяны нашли Афанасия Кирилловича Нарышкина. Его выдали Пётр Андреевич Толстой и Цыклер.
Не в пример другим, Нарышкина не сбросили на копья а, связав спиной к спине с князем Григорием Григорьевичем Ромодановским, били обоих головой об стену до тех пор, пока они не испустили дух. Трупы выбросили на крыльцо и там, как самых неумолимых гонителей староверов, изрубили в куски и отдали на съедение псам.
Кружится Москва в хмельном угаре. Не стало более начальных людей. Ходуном ходят, хоромы боярские топчут холопьими плясками и развесёлыми песнями. Отныне каждый убогий человечишка сам себе и холоп и господарь.
Ухарски заломив набекрень бархатную шапку, гордо шагает Фомка по вздыбившимся московским улицам. За ним прёт море холопьих голов.
– Пой, веселись, православные! Ныне исполнилось время идти ратью на Холопий и Судный приказы!
Черна улица толпами. Беда ли в том, что Сухарев полк под началом пятисотого Бурмистрова и пятидесятного Борисова, изменил стрелецкому делу! Не повернуть Бурмистрову солнца вспять! Время исполнилось!
Фомка шагает впереди всех, торжествующий, гордый, вдохновенный. Знает, будет ныне по слову Родимицы, исполнит он то, что утром ещё наказала она исполнить. Как горячо целовал Фомка уста постельницы, изрёкшие дивные слова о кабальных. Точно то, о чём он томительно думал долгие годы, но не мог ясно представить себе, неожиданно открыла ему Федора.
– За мной! На Холопий и Судный!
Пусты приказы. Врываются весело в открытые двери людские потоки. Пропылённые горы кабальных записей рассыпаются по полу. Летят через выбитые окна клочья жёлтой бумаги, грязным весенним снегом кружатся над головами, падают жалко и мёртво под ноги пьяных от нежданного счастья людей. Фомка карабкается на столб, срывает шапку, осеняет себя благоговейным крестом.
– Ныне от всех стрелецких полков, я, Фома, обетованье даю установить правду великую. Да не будет боле на земле нашей кабальных людишек! Воля! Всем воля!
Раскачивают столб цепкие холопьи руки, падает Фомка в звенящее море могучих криков.
– Урра!
И взлетает высоко в воздух.
– Стрельцам мятежным – уррра!!!
Глава 16
СОПЕРНИЦЫ
Наталья Кирилловна сидела подле сына и, чтобы развлечь его, рассказывала какую-то евангельскую притчу.
Пётр уставился в подволоку и, очевидно, ничего не слышал. Его круглое лицо с раздвоенным подбородком то загоралось гневом, то искажалось жестоким страхом.
Вдруг он вскочил с постели и крадучись, бочком попятился к красному углу…
– Боюсь! – со стоном вырвалось из его груди. – Боюсь, матушка! Гони его отсель!
Царица обняла сына и долго сквозь горькие слёзы успокаивала его.
– Ведунью бы, – предложил Тихон Никитич. – На уголёк, авось страхи б государевы отвела.
Борис Голицын ухватился за мысль Стрешнева и послал кого-то из думных дворян за ведуньей. Однако дворянин вернулся ни с чем. Кроме челяди и хозяйничавших стрельцов никого почти во всём Кремле не было. Пришлось прибегнуть к последнему средству – к молитвослову.
Дремавший у окна Иоанн, услышав знакомые слова молитв, приподнял голову и продрал слипшиеся от гноя глаза.
– Нешто за диакона послужить? – зевнул он. – Заела меня скукота. – И, не дожидаясь согласия, дребезжащим тенорком наизусть прочитал Апостола.
Наталья Кирилловна склонилась над сыном.
– Ты бы лёг, мой лопушок.
Пётр послушно поплёлся к постели и зарылся лицом в подушку.
Вдова Федора Алексеевича, царица Марфа Матвеевна, передав младшую сестру Петра Наталью на попечение царевне Екатерине, присела на край кровати. Строгое, монашеское выражение её лица смягчилось тающею в обвислых уголках губ улыбкою.
– А не убаюкать ли песенкою царя-государя?
Все находившиеся в терему, даже Софья, мгновенно притихли.
Наталья Кирилловна благодарно кивнула Марфе.
– Пожалуй, царица, сыграй отроку песенку.
Марфа Матвеевна поправила завязанную узелочком чёрную шёлковую косыночку, зачем-то широко расставила ноги и уткнулась кулаком в расплющенный подбородок.
В старые годы, прежние, —
запела она так, точно читала по монастырскому чину часы, —
При почине каменной Москвы,
Зачинался тут и Грозный царь,
Грозный царь Иван сударь Васильевич.
Пётр повернулся на спину, внимательней вслушался.
– Люба ль тебе песенка, царь?
– Люба, – не разжимая зубов, подтвердил Пётр.
– А люба, так дале потешим тебя:
А в та поры у царя был почестный стол.
Почестный стол, пированье великое
Про всех про князей, про бояр.
Про гостиных людей, купцов сибирских…
Сонно смежались царёвы веки. Монастырский тягучий напев, видимо, убаюкивал Петра, навевая дрёму.
Царица пела все тоскливее, однотоннее, точно творила ей одной ведомое заклинание.
На коленях у Екатерины, раскинув ручонки, запойно храпела Наталья. Царевна Евдокия склонила голову на плечо Софьи и тоненьким, как паутина на солнышке, голоском подпевала царице.
– Почивает, – приложила палец к губам Наталья Кирилловна и набожно перекрестила сына.
Вдруг на дворе раздался отчаянный крик.
Все бросились к окнам.
Очнувшийся Пётр повис на шее у матери.
– Стрелец! – обмер он. – За мною стрелец идёт! – И, спрыгнув на пол, юркнул под кровать, увлекая за собою царицу.
Толпа, во главе с Черемным, волокла по двору найденного в подполье думного дьяка Аверкия Кириллова. Навстречу им Фомка катил бочонок с солью.
– Потчуйся! – захохотали стрельцы, сунув голову дьяка в бочонок.
Кириллов оглушительно заревел и пал на колени.
Какой-то гулящий, откалывая русскую, поклонился до земли дьяку.
– Наслышаны мы, – не переставая лихо работать ногами, подмигнул он, – что по твоему подсказу наложена пошлина неправедная на соль?
Дьяк выплюнул застрявшую в зубах соль и истово перекрестился.
– Не по своей воле сотворил, по указу боярскому!
– Врёшь! – уже зло процедил гулящий. – Не ты ли кичился зимою перед кругом стрелецким, что твоя то затея?
Толпа схватила Кириллова за ноги.
– А коль из-за пошлины чрезмерной остались убогие без соли, жри её сам! Жри, иуда!
И уже до плеч сунули его головой в соль. На радость смутьянам, Аверкий бешено задрыгал ногами.
– Пляшет! Глядите! Ей-Богу, пляшет!
Из-за церкви показалась новая толпа людей, тащившая чей-то истерзанный труп.
– Руби его! Как он в застенках наших брателков рубил!
Стая псов жадно набросилась на жирные куски человечины.
– Господи Боже живота моего! – содрогнулся Тихон Никитич и отскочил от окна.
Софья, едва сдерживая злорадную усмешку, поплыла на свою половину. За ней, тепло обнявшись, пошли вперевалочку царевны Марья и Марфа.
В сенях их встретила Родимица.
– Добрые вести, царевнушка!
Софья остановилась, пропустила наперёд сестёр и, когда те скрылись в светлице, шумно дохнула в лицо постельнице.
– Аль удалось тебе Фомку-стрельца на хоромины князя Василия натравить, с Авдотьей расправиться?
Федора приложилась к руке царевны.
– То будет. То не уйдёт от нас. Тому порукой моя голова. А есть у меня вести покраше: раскольники, царевнушка, поднялись! Как один волят царём Ивана-царевича!
Софья больно ущипнула Родимицу за щёку.
– Не егози! Я про Авдотью, жену Голицына, пытаю!
Среди дикого крика, воплей и песен, доносившихся со двора, Федора отчётливо расслышала вдруг голос Фомки. Она подскочила к выходной двери и поманила к себе царевну.
– Эвон, гляди, с батогом в руке. Тот самый Фомка и есть.
Софья невольно залюбовалась тонким и стройным, как молодой тополёк, стрельцом.
– А у тебя губа не дура! – облизнулась царевна и шире раскрыла дверь. – Эка, пригожий какой! Ни дать ни взять – князь по осанке.
Родимица начинала раскаиваться в том, что показала Софье своего возлюбленного. Что-то похожее на ревность шевельнулось в её груди.