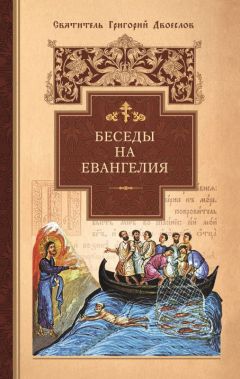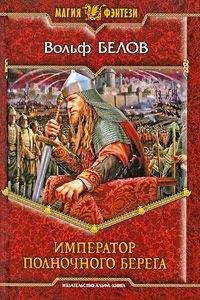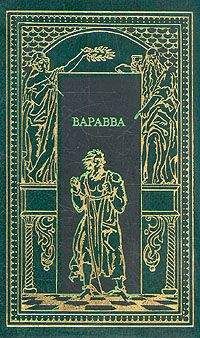Николас Уайзмен - Фабиола
— А коли виноват, — продолжал германец, который оказался не столь глуп, как думал Корвин, — так сам и выкручивайся. Спасай меня и себя. Ведь тебе будет хуже, чем мне. Надпись поручили тебе, а мне поручили доску. Доска ведь вот она! Целехонька!
Корвин задумался.
— Вот что, — наконец сказал он, — беги и спрячься. Никому не показывайся несколько дней, а мы скажем, что на тебя напала ночью толпа, что ты защищался и, вероятно, тебя убили. Сиди дома, а я уж достану тебе пива вволю.
Солдат не стал долго раздумывать и тотчас ушел. Через несколько дней на берегах Тибра было найдено тело германца. Предположили, что он был убит в ночной схватке в каком-либо загородском кабаке, и дело предали забвению. Как это случилось, мог бы рассказать Корвин. Покидая Форум, он внимательно осмотрел доску, столб, на котором она висела, и землю вокруг. Он нашел только небольшой нож, который, как ему казалось, он где-то видел, и заботливо спрятал его, силясь припомнить, у кого именно он его видел.
Когда настало утро, народ толпой повалил к Форуму. Все хотели собственными глазами увидеть страшный декрет, но обнаружили только голую доску. Впечатление, произведенное на толпу, было различным. Одни возмущались дерзостью христиан; другие потешались над теми, кому поручено было вывесить эдикт; некоторые не могли не удивляться мужеству христиан, но большинство осыпало их ругательствами и распалялось против них еще большей ненавистью.
Во всех публичных местах, в банях, в садах только и говорили, что о пропаже эдикта. В банях Антонина, где собиралось высшее римское общество и молодежь, также велись оживленные разговоры.
— Какая дерзость, — говорили светские щеголи и важные лица , — украсть декрет!...
— Да это что! Убить бедного солдата — вот дерзость, достойная одних христиан! Чем виноват солдат? Он исполнял свой долг, его приставили охранять эдикт, он и охранял его.
— Неужели убили? — восклицал женоподобный молодой патриций, постоянно любовавшийся собою и своим нарядом.
— Как же, убили... тело нашли... весь изранен, смотреть страшно! Какое зверство!
— И какая низость! Сто на одного! Одни христиане способны на такую низость.
— Они на все способны. Не будет здесь ни спокойствия, ни благоденствия, пока не истребят их всех до единого.
— Травить их зверями! — завопил один.
— Жечь на огне! — крикнул другой.
— Резать, где бы ни попались! — подхватил третий.
— И все это было не так, — важно произнес пожилой человек с надменным лицом, стоявший в стороне, — тут было не нападение, а колдовство. Мне рассказывал очевидец, что к солдату подошли две женщины; он пронзил одну из них мечем, — меч прошел сквозь нее и не ранил; тогда он, испугавшись, — да и кто бы не испугался! — обернулся к другой и пустил в нее свое копье. Копье прошло насквозь через ее тело и полетело дальше. Тогда эта женщина бросила в лицо солдата горсть какого-то зелья, и солдата понесла по воздуху невидимая сила. Она занесла его далеко на крышу одного храма, и нынче утром его нашли там спящим на самом ее краю. Я уж не знаю, как это боги спасли его от смерти. Одно движение, и он бы упал и разбился. Добрые люди, увидев его утром, приставили лестницу, влезли на крышу и осторожно разбудили его. Солдат рассказывал все сам. Один мой приятель видел лестницу, по которой он благополучно слез. Ну, не позор ли, что этих колдунов еще не истребили, и что они могут проделывать такие штуки? После этого никто не может ощущать себя в безопасности, ни вы, ни я...
— Странное дело, — шептали другие.
— А я в это не верю, — сказал какой-то пожилой человек. — Все это сказка.
— Как сказка! Мой приятель видел своими глазами лестницу! — возразил с досадой пожилой.
Видеть лестницу не мудрено, и я нынче видел лестницу, но из этого не следует, что можно верить в колдовство... Но я веду речь не к тому. Вот результаты, к которым пришли, благодаря нашему равнодушию к общественным делам. Христиане воспользовались этим, забрали все в свои руки и вертят всем; все себе позволяют. Их везде много — и в армии, и в обществе, и в провинциях! Таких интриганов трудно найти. Кальпурний! Ты все хорошо знаешь, ты человек ученый: скажи, ведь ты не веришь колдовству?
— Но мой приятель видел все своими глазами!... — воскликнул пожилой.
— Видел лестницу!... Знаем, знаем, — сказал, смеясь, молодой щеголь, и толпа расхохоталась. Пожилой передернул от досады плечами и бросил на все общество взгляд, исполненный глубочайшего презрения.
— Я думаю, — сказал Кальпурний, — что нельзя совершенно отвергать колдовства. Чтобы унести солдата по воздуху, надо только отыскать пригодную для этого траву; в известное время года и при известной погоде надо истолочь ее в ступке, приговаривая магические слова, и смешать с аэролитом, упавшим с неба камнем. Тогда человек, которому бросят в глаза этот порошок, полетит, как аэролит. Колдуньи в Фессалии (это известно даже в простонародье) летают по воздуху. Первые христиане, как я уже говорил не раз, родом из Сирии, которая исстари славилась колдовством и колдунами. Неудивительно, если они и здесь при помощи злых духов совершают разные злодеяния!
— Неужели все христиане колдуны? — спросил кто-то из толпы.
— Конечно колдуны, в этом и заключена их страшная сила. Посмотрите, каким почтением пользуются их жрецы, а почему? Все они колдуны. Заметьте, что у них установлено равенство между всеми: раб и патриций равны, а почему? Оба колдуны и, следовательно, обладают одинаковой силой.
— Какой ужас! — сказали одни.
— Как возмутительно! — прибавили другие.
— Какая низость! — закричали в один голос молодые щеголи.
— Раб и патриций равны! Да это безнравственно!
Теперь понятно, почему божественный император издал против них строгий, но справедливый эдикт, — сказал Фульвий.
— Они достойны самых суровых наказаний, верно, Себастьян?
— Фульвий пристально посмотрел на только что вышедшего из бани Себастьяна. Себастьян нисколько не смутился и холодно отвечал:
— Если христиане колдуны и преступники, если они злодеи и изменники, то они достойны наказания, но и в этом случае, по-моему мнению, им надо предоставить некоторые права.
— Какие же? — спросил Фульвий с иронией.
— Я бы хотел, чтобы те, которые обвиняют их, доказали, во-первых, их преступления, потом я бы хотел, чтобы обвиняющие их не были сами ни убийцами, ни ворами, ни развратниками, ни пьяницами. Что касается меня, я знаю, что несчастные христиане, которых так позорят, не виноваты ни в чем подобном.
Ропот негодования раздался в толпе. Фульвий покраснел от злости, но спокойный, светлый взор Себастьяна, его звучный голос, благородная осанка обезоружили его. Толпа, встретившая слова Себастьяна воплем негодования, тоже стихла Она почувствовала на себе то неотразимое влияние, которое всегда производят люди, говорящие правду.
Произнеся эти слова, Себастьян повернулся и тихо вышел из бань. Он шагал по улицам Рима, не видя и не замечая ничего. «Долго ли нам страдать? — думал он с горечью. — Долго ли выносить клевету и гонения, долго ли бороться с разъяренною толпою? Долго ли слышать обвинения от тех, которые не имеют ни малейшего понятия о нашем учении и о нашей вере, да и не хотят знать, кто мы такие?» В эту минуту он вдруг остановился, вынул из-под одежды какой-то кусок пергамента, прочел и в этот момент вышел за ворота Рима и невольно прошептал: «Боже мой! Опять? И долго ли еще?»
— Добрый человек, — сказал за ним тихий и кроткий голос, — что за дело, что нас еще топчут ногами и бросают в нас грязью? Потерпим еще.
— Спасибо, Цецилия, — сказал Себастьян, — устами твоими, как устами невинного младенца, говорит Христова мудрость. Спасибо тебе, ты поддержала падавший дух мой и пролила целительный бальзам на мое скорбевшее сердце. Но куда ты направляешься и почему ты так спокойна в этот страшный для всех нас день?
— Я назначена проводницею в катакомбы Калликста, — сказала Цецилия. — Если нам суждено погибнуть, помолись за меня; пусть я первая погибну.
Она хотела удалиться, но Себастьян остановил ее и поспешно начал ей что-то объяснять.
XX
Лечь спать после своего ночного предприятия ни Панкратий, ни сыновья Диогена не могли, ибо до зари они должны были вместе с другими христианами быть за литургией в домашней церкви. Это собрание должно было быть последним, ибо часовни и домовые церкви решено было по приказанию епископа и священников запереть и впредь собираться для молитвы в катакомбах. Тем из христиан, которые жили слишком далеко, разрешено было в случае опасности оставаться дома.
Тот же день был отмечен волнующей сценой. Христиане, зная, что наступила пора испытаний, прощались друг с другом. В церкви раздавались звуки поцелуев, плач и рыдания. Действительно, многим из присутствовавших не суждено было уже свидеться в этой жизни. Все плакали, все боялись один за другого, но никому не приходило в голову отступиться от своей веры; всякий просил у Господа сил перенести ожидаемые бедствия и страшную смерть или, что еще ужаснее, весть о смерти родных и близких.