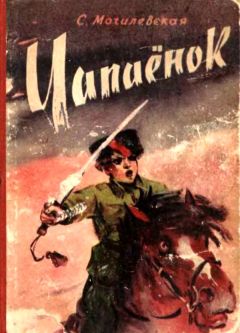Юрий Федоров - Борис Годунов
— В час Страшного суда все мы восстанем из гробов перед ликом господа нашего, но до того никому не дано подняться из-под могильной плиты. — Помолчав, он добавил: — Слух представляется мне малоправдоподобным.
Сапега упрямо сжал губы.
— В Смоленске говорят, — сказал он, — что царь Борис, повелев убить царевича Дмитрия, стал держать при себе, в тайных покоях, его двойника с тем, что, ежели самому не удастся овладеть троном, он выдвинет лжецаревича и заберет трон его руками.
Губы Рангони тронула улыбка, и он еще раз покачал головой:
— То уже второе изложение злой сказки. — Помолчал. — Да, да… Это не более чем злая выдумка врагов царя Бориса. История знала немало лжепринцев и лжекоролей.
Он наклонился вперед и доверительно коснулся колена литовского канцлера:
— Я не вижу продолжения сказки, рожденной в Смоленске.
— Но Россия, — живо возразил Сапега, — подобного не знала, и молва о чудесном спасении царевича чрезвычайно действует на воображение россиян.
— Как? — Рангони прочистил горло и впервые прямо взглянул в лицо канцлера. — Чрезвычайно действует на воображение россиян?
Нунций встал и, неторопливо и мягко ступая, прошелся по палате. Канцлер внимательно следил за ним и почему-то подумал вдруг, что так в польских пущах идет по следу рысь, угадывая рядом поживу. Рысь чувствует живой, острый запах крови, он притягивает ее, но глаза зверя не видят добычи, и рысь дрожит, готовая в любое мгновение сорваться с места и броситься на свою жертву, вонзить в нее смертоносные клыки.
Рангони остановился у окна. Перед ним открылась безлюдная к вечеру рыночная площадь. У дальних домов мокли под дождем впряженные в тяжелые телеги крестьянские лошади. Едва видимые, копошились какие-то люди. Тускло блестел выстилавший площадь серый булыжник.
«Грубая ложь, — подумал Рангони. — Трудно предположить, чтобы она хоть в какой-то мере пошатнула величие столь могущественного самодержца, как государь России». Он криво улыбнулся, зная, что лица его не видит литовский канцлер: «В борьбе честолюбий идут в ход даже истлевшие под могильной плитой трупы».
Рангони заставил себя мысленно расслабиться, полагая, что ему удалось понять до конца и верно оценить весть, принесенную литовским канцлером. И все же в его мозгу мерцали какие-то тревожные сполохи. Так в ночи у края неба мерцают далекие зарницы. Небо темно, чернота покрыла землю, и вдруг нечто неуловимое проблеснуло вдали и погасло. То, говорят, черти костры палят.
Папский нунций поднял руку и слегка коснулся полуприкрытых век. Постоял так мгновение и только тогда вновь взглянул в окно.
На площади, там, где на серых тусклых камнях виднелись неряшливые человеческие фигурки, блеснул свет фонаря. Свет был так ярок и неожидан, что Рангони увидел площадь совсем иной, чем она была в сумеречный предвечерний час — мрачной, глухой и безлюдной. Перед глазами папского наместника зажглись разноцветные огни, площадь заполнило множество веселых, поющих людей в ярких одеждах, тут и там закружились карусели, загудели дудки, ударили барабаны, запели рожки, и в праздничном, бесшабашном, расплеснувшемся на всю площадь потоке радости вихрем закружилась многоцветная юбка пляшущей цыганки. Ярмарка, широкая ярмарка шла по площади…
У Рангони расширились глаза, прижались к голому черепу уши. Он видел торжество сатаны, дьявольский праздник человеческой плоти. И все так четко и ясно продуманное минуту назад вдруг смазалось, замутилось, рассеялось, как дым на ветру. Наместник папы резко отвернулся от окна. Сказал твердо:
— Следует внимательно следить за распространением молвы о чудесном спасении российского царевича. Больше того — сей слух литовские шпиги должны нести все дальше и дальше. Пускай заговорят об этом на базарах, на ярмарках, в шинках. — Рангони перекрестился. — Неисповедимы пути господа нашего Иезуса, и не нам судить о творимом под сенью его креста.
5
Стремянному полку вышел приказ собираться в поход, и Арсений Дятел закружился так, что не знал покоя ни днем ни ночью. Да и по всей Москве зашевелился народ. Разом — будто бы вихрем — завертело Москву. Бывает так: тихо, ясно, но упадет ветер с безоблачного неба, и запорошит пылью, захлопают ставни, заорет воронье, с криком побегут ребятишки, завопят бабы, замычит скотина — все сорвется с мест, закружится, подхваченное порывом.
Так и сейчас — каждому выпала забота. Лавки в рядах торговых, почитай, и не закрывались. Купцы валились с ног — столько народу поднаперло на торги. Тому толокно или сухари надобны в дорогу, другому ремешок или пряжечка, третьему другую какую вещицу, нужную для похода. На Варварке, на Никольской не протолкнуться. И даже на животинной площадке, в Зарядье, толчея и неразбериха. Мычат коровы, блеют овцы, визжат свиньи, летит перо птичье, и всякий здесь свое ищет и торгует. Да оно и понятно. И в походе хочется не тому, так другому укусить мясца. С мясцом-то оно покрепче. Тут же в хлебном, калачном, масляном, соляном, селедном рядах купцы знай только поворачивались. Лбы были мокрые. Хлеб али калач кому не нужен? А маслица горшочек разве плохо прихватить в дорогу? А без соленого как быть? Селедочка, она, известно, веселит воина. Да и давно ведомо: ежели не хочешь в пути страдать от жажды, съешь кусочек солененького.
— Эй, любезный, заходи! — кричали купцы. — У нас выбор!
За полы хватали. Горячий час — купец за копейку две брал, а то и три.
Ну и, конечно, зарядский люд: кузнецы, скорняки, картузники, портные, колодочники, шапочники, кошелевщики, пуговичники не сидели сложа руки. Каждому подваливали: одному — починить кольчужку, другому — залатать шубу, сапоги или шапку. Горны дышат жарко раскаленными углями, стучат молотки, мелькают острые иголки в ловких руках. И крик, перезвон стоит — больно ушам.
— Давай подходи, дядя!
Меж рядов и лавок толкались площадные дьяки в длинных, отличных от других кафтанах — доглядывали, чтобы не было непорядка или воровства. Глаза у дьяков строги, голоса глухи, кулаки крепки.
— Эй ты, бойкий, — покрикивали, — торговаться торгуйся, а в чужой карман не смей!
И такой-то начальственный кулачище подставят к носу — любой сядет на зад.
У кружал, у харчевен, у погребов с вином тесно. Оно понятно: перед ратным походом почему с дружками не посидеть да не покуражиться? Уйти-то уйдешь в поход, но вот вернешься ли? Собирались не к теще на блины — под татарские стрелы.
Вон мужик в заломленной на затылок шапке кренделя выписывает ногами. Да еще какие выделывает коленца! Пыль летит из-под лаптей. Знать, хватил горячего винца. А вокруг такие же веселые всплескивают ладошками. Москвичи поплясать любят. И вот уже второй вошел в круг, третий — и закружились, захороводились мужики.
Арсений Дятел шел по Никольской — а улица сия домами знатнейших на Москве была весьма украшена — и видел, что не дремлют и здесь. Во всех дворах — бояр Салтыковых и Шереметевых, князей Воротынских и Буйносовых-Ростовских, Хованских и Хворостиных, Телятьевских и Трубецких — суета и беспокойство. Проходя мимо дома Трубецких, Дятел в настежь раскрытые ворота увидел, что сам князь Тимофей Иванович стоит на широком крыльце, а конюхи взору княжескому коней представляют. И каких коней! Арсений даже остановился. На цепях врастяжку подвели к крыльцу вороного жеребца. Грудь что крепостная стена, на крупе впору укладываться спать, шея как ствол матерого дерева. Жеребец зло рыл землю мохнатыми ногами, косил алым глазом и все норовил на дыбы подняться, но конюхи ложились на цепи. Такой конек, понятно, в сече пойдет — и его никто не удержит. Сомнет, истопчет, сокрушит и пешего и конного. Чистое золото, а не жеребец. Воину великая надежда. Арсений видел, как князь Тимофей Иванович подбоченился на крыльце. Лицо князя украсилось доброй улыбкой. Да оно и понятно — всякому на такого конька поглядеть любо.
А еще и других коней вывели. Так бы стоял и смотрел, но заботы торопили Арсения.
На Москве стрелец оставлял жену да троих мальцов, и надо было покрутиться. Хотел, чтобы и без хозяина были сыты и не обижены лихим человеком. Стрельцы жили крепко. У Арсения два мерина добрых, коровы, телушка, полтора десятка овец, разная птица. Вошел во двор Дятел, глянул: с тесовой крыши высокой избы, сложенной в обло, так, что выступали наружу мощные концы бревен, капало, но двор был сух, только у хлева стояли желтые навозные лужи. «Присыпать бы надо», — подумал Арсений, но не стал задерживаться, а прошел за хлев, к ометам, поглядеть, сколько осталось сена, хватит ли скотине до нови. Сенца, слава богу, было достаточно. Арсений все же взял вилы, ткнул здесь, там — остался доволен. Сено было доброе: духовитое, сухое. Поставив вилы для сохранности в затишек, вернулся к избе и, словно бы не видя ее раньше, оглядел всю, от охлупеня до подызбицы. Что слеги, что причелины, что самцы показывались живым, смоляным цветом крепкого, не попорченного ни временем, ни червем дерева. Вот только водотечины чуть подгнили. «Ну да вернусь, даст бог, — подумал Дятел, — починю».