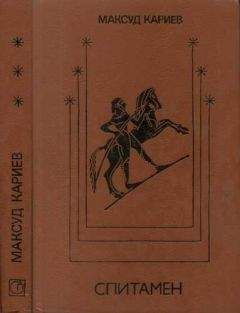Андрей Косёнкин - Крыло голубиное
Михаил проснулся среди ночи от тишины. Ветра не было. Он поднялся. Оторвал от окна войлочную заглушку. Высоко в чистом черном небе висело мятое серебряное блюдо луны.
По первому свету посольский княжеский поезд готов был тронуться в путь. Бояре, дружинники, ездовые были свежи и радостны, будто вчера в бане помылись. В ясном, прозрачном воздухе, схваченном легким морозцем, звонко разносились голоса, скрип упряжи и полозьев, храп и крики стабуненных коней.
По слову Ефрема для скорого бега возки запрягли не парой, а по-особому — владимирской тройкой. В корень Тверитин велел поставить рослых, известных резвостью русских коней, а в пристяжные велел запрячь сноровистых степных татарских лошадок.
Татары дивились необычной запряжке, да и тверские чесали под шапками.
— Куды дак! — сильно волновался княжеский ездовой Пармен Сила. — Порвут постромки-то!
— Кудыда, кудыда! — нарочно дразнил его Тверитин. — А ты-то на что? Кнутом-то ее стереги…
Михаилу запряжка пришлась по нраву. Уж одно хорошо, что любо глядеть, а коли пристяжных не упускать из узды да кнутом по бокам охаживать вовремя, глядишь, и правда полетят по-иному!
— А то! — хвастал Ефрем. — Как еще полетят-то!
Татарские провожатые тоже рядились в путь. Это князю не нравилось. Дальше, по уговору с мурзой, тверичи должны были бежать одни. Хоть и не было от них покуда никакого вреда, а, напротив, одна лишь польза, но Михаила тяготило их присутствие: словно рука Тохты не отпускала его. Вчера Ак-Сабит (Михаил это видел) до времени, пока и его не свалила арька, хотел говорить с ним, но слишком шумно и людно было в избе.
— Али раздумал в Сарай возвращаться? — спросил Михаил Ак-Сабита, пешим подошедшего к крыльцу, на котором стоял князь.
— Русский улус хорошо! Я же в Ростове у царевича Петра при дворе мальчиком жил…
«Вон оно что», — понял наконец Михаил, откуда мурза так хорошо знает русскую речь.
Когда-то ордынский царевич, племянник хана Берке, так сильно пленился Христовым учением, что принял православную веру, крещен был под именем Петра, женился на русской и жил в Ростове Великом, как говорили, свершая одни лишь благодеяния. Впрочем, для татарина и то уж благодеяние, если он не убивает русских.
— Хороший русский улус, — повторил Ак-Сабит и добавил: — Только закона нет.
— Как нет? — Михаил удивился.
— А так — нет в вашей вере закона, одно добро. А значит, это уже и не закон, князь. Жил я у вас, знаю, все можно!
— Что — все?
— Люди твои сайгу упустили, ты их наказал? — Ак-Сабит плетью загнул на руке малый палец. — Люди твои коней потеряли, почему ты никого не убил? Разве они без вины? — Плетью он прижал другой палец к ладони. — Ефрем твой баскакова сына убил, зачем ты его из-под суда вывел? — Ак-Сабит загнул на руке третий палец. — Правосудный хан и это тебе запомнил, — взглянув по сторонам, проговорил он вскользь и продолжил: — Твоя вера не дает кушать мясо, но если кто нарушит запрет, почему ты его не убьешь? — спросил он, загнул еще один палец, сжал руку в кулак и пристально посмотрел Михаилу в глаза.
Михаил молчал.
Мурза усмехнулся:
— Молчишь, князь? То-то… Ваш закон добрый, наш Джасак злой. Потому вы всегда будете нам служить.
— Врешь! — Михаил побелел лицом, но говорил спокойно. — Врешь, мурза. Мы вам не слуги, а данники. Не дело мне с тобой, безбожным татарином, о вере святой речь вести.
— Я не татарин, я монгол, — надменно сказал Ак-Сабит.
— Один черт, мурза, — усмехнулся Михаил.
— Не ругайся со мной, Михаил, — сказал вдруг Ак-Сабит. — Ак-Сабит не хочет быть врагом князю.
Михаил сбежал с крыльца, став вровень с татарином. Не меньше чем на голову с хорошей шапкой он был выше мурзы.
— Ладно, Ак-Сабит… ехать нам пора. — Он помолчал, не зная, как ему проститься с татарином. — А коли не хочешь врагом быть, скажи, по какой примете узнал, что дуть нынче кончит?
— Нет приметы, князь, для степного бурана: шайтан сам приходит и сам уходит.
— Откуда ж верно прознал?
— Бохша Сульджидей сказал: шайтан два дня будет дуть, на третий устанет.
— Гурген Сульджидей? — не веря, переспросил Михаил.
Мурза важно кивнул.
— Так, князь. Великий бохша все знает. Он велел мне упасти тебя от шайтана.
— Упасти? Ты разве не ханский нукер? — Князь все более удивлялся. Он-то считал, что это Тохта навязал ему провожатых.
— Все мы слуги у хана, — улыбнувшись, уклончиво ответил мурза.
По его глазам князь понял: больше ему Ак-Сабит ничего не скажет. И так сказано было достаточно. Выходит, не хан послал Ак-Сабита, а его могущественный советник Гурген Сульджидей, и вовсе не с тем, чтобы задержать в пути, а напротив.
Тем более следовало спешить!
— Ну, прощай, Ак-Сабит!
— Спеши, князь, — сказал он серьезно и вдруг рассмеялся. — А татарам не верь, у нас свой Джасак! — И еще, когда уже Михаил тронул коня, крикнул весело вслед: — А татарам не верь, князь! И мне не верь!..
Наконец-то над степью открылось небо, и было оно так высоко, сине, бездонно, каким на Руси бывает в светлый апрельский день. Солнце искрило снегом, слепило глаза, розово насквозь пробивало ладонь, когда Михаил пытался от него заслониться.
Княжеский поезд летел, укатывая первопуток, звеня колокольцами и, как научили татары, не упуская из виду Волгу, которая то приближалась, то отдалялась голыми прутьями ивняка, определяя верность пути.
Запряженные тройкой возки и правда бежали прытче. То коренной тащил за собой пристяжных, то пристяжные несли вперед коренного, не давая ему лениться.
Бешеным гоном, с остановками лишь на короткий ночлег, миновали мордовские земли, Бездеж, Самара, Бельджамен, Булгар[51] и прочие ордынские города…
А дальше уж начиналась Русь.
10
Въехав в Русь, Михаил приказал снять ордынские колокольцы. Что беду даром кликать? Да и устал он от их бесконечного тоскливого звона. Уху приятней было слышать скрип бегущих полозьев да покойный стозвонный шум вековых боров.
От Булгара до Рязани и далее от Рязани путь шел сплошь лесом. Высокие, и зимой зеленые сосны с нахлобученными белыми шапками осыпали снежное убранство в мягкие сугробы с утробным стоном. Прыткие, любопытные белки темным пламенем мелькали среди золотистых стволов, сопровождая княжеские возки.
Однако и здесь, среди покойных родных лесов, тревога не оставила князя. Темные, загадочные полунамеки юрта-джи Ак-Сабита лишь утвердили его в мыслях о том, что Руси готовится новая пакость. Причем было ясно, что Ак-Сабит, бессомненно, знал больше, чем сказал Михаилу.
Юрта-джи — человек-сторож, разведчик, в чью службу входит обязанность знать если уж не все, то как можно больше из того, что происходит в самой Орде и за ее пределами. Однако какой же веской должна была быть причина, по которой сам советник Гурген Сульджидей (как предполагал о том Михаил) заставил хана внезапно отправить его на Русь и даже дал ему провожатых, чтобы провели сквозь буран.
Истина не бывает истиной наполовину, но ложь может казаться правдой. Особенно государева или татарская ложь — милостивая, улыбчивая, вероломная. Где хан — там и правда, так говорят в Сарае. А надо бы говорить иначе: где хан — там и ложь…
Впрочем, об Орде, хане Тохте, Сульджидее, обо всем том, что прошло, князь уже не поминал. Пытаясь предугадать события, он думал лишь о том, что ждет его на Руси.
По зимней поре и путников не было, только деревья летели навстречу.
Первыми, кого встретил Михаил, были рязанские князья Федор, Константин и Ярослав Романовичи. Встретили они тверского князя с искренней приязнью и ни за что не хотели отпускать без пира и гостевания. В иное время Михаил с охотой задержался бы у них. Осиротев, братья не потащили каждый на свою сторону Рязанскую землю, а, напротив, дружно сплотились, чем дали редкий по тем временам пример княжьим гнездам. Отец их, славный Роман Олегович, кровью своей завещал им жить в вере, мире и добросердечии, и сыновья держали его завет.
А страшную мученическую смерть Роман Олегович принял от сменившего хана Берке будто бы больно доброго, как о нем и по сю пору говорят в Сарае, брата его Менгу-Тимура, тайного же убийцы и Михайлова отца, что тоже сближало тверского князя с рязанскими братьями.
Вместе с Ордой Менгу-Тимур принял от брата магумеданскую веру и, наверное, первым из татар служил ей столь ревностно. Менгу-Тимур, в отличие от осторожного брата, отдался магумеданству со всей царской страстью и так был усерден в нем, что возненавидел иные учения и стал уничтожать всякого «неверного» уже не потому лишь, что нуждался в его стадах, пастбищах, ином богатстве или просто из склонности к первенству, как делали это Чингис и Баты, а из одного ревностного служения Алкорану, не терпящему божественного соперничества.