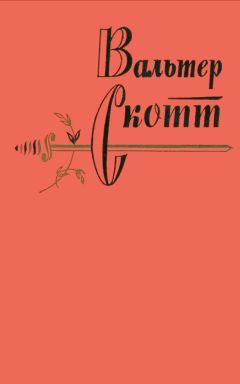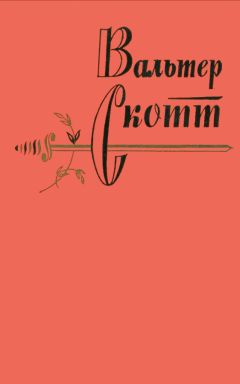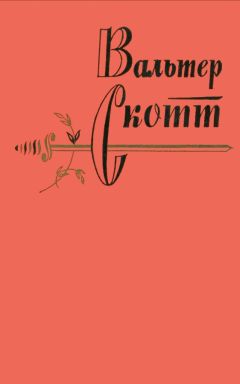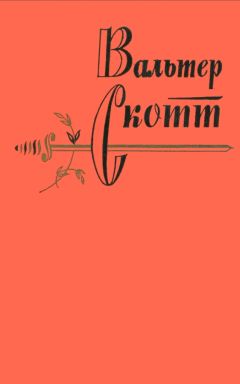Вальтер Скотт - Карл Смелый
— Дай Бог, чтоб мы хоть сейчас были уже там! — вскричала красавица отчаянным голосом, который она тщетно старалась сдержать.
— Это трудно сделать, прежде чем мы исполним поручение, которое привело нас сюда, — сказал Бидерман, принимающий все в прямом смысле. — Однако, ложась спать, Анна, съешь кусочек чего-нибудь, выпей несколько капель вина, и ты встанешь завтра такая же веселая, как в Швейцарии, когда в праздник играют на флейте утреннюю зарю.
Анна, сославшись на сильную головную боль, отказалась от ужина и пожелала своему дяде спокойной ночи. Потом она приказала Лизете идти поужинать, подтвердив ей, чтобы по возвращении она как можно меньше делала шуму и не будила бы ее, если ей удастся заснуть. Арнольд Бидерман, поцеловав свою племянницу, возвратился в залу, где товарищи с нетерпением его ожидали, желая приступить к стоящим на столе припасам, к чему молодые люди, составляющие стражу, за исключением часовых и наряженных для обхода, были расположены не менее своих начальников.
Знак к приступу был подан швицким депутатом, который как самый старший прочитал перед трапезой молитву. После чего путешественники наши принялись за дело с усердием, доказывающим, что неизвестность о том, будут ли они ужинать, и замедления, происшедшие от разных приготовлений, очень усилили их аппетит. Даже сам Бидерман, воздержание которого походило иногда на пост, казался в эту ночь более расположенным пировать, чем обыкновенно. Швицкий его приятель, следуя такому примеру, очень усердно ел, пил и разговаривал, в чем и товарищи от него не отставали. Старый Филипсон смотрел на это внимательно и с беспокойством, наливая свой стакан только тогда, когда учтивость заставляла его отвечать ка предлагаемые тосты за здоровье. Сын его оставил залу в ту самую минуту, как ужин начался, а каким образом, — это мы сейчас опишем.
Артур решил присоединиться к молодым людям, назначенным для обхода снаружи замка; он уже об этом сговорился с Сигизмундом, третьим сыном Бидермана. Но прежде, чем он предложил свои услуги, бросив прощальный взгляд на Анну Гейерштейнскую, он заметил на лице ее такое необыкновенное выражение чего-то торжественного и в то же время как бы со страшной силой угнетавшего ее молодую душу, что это отвлекло его внимание от всех прочих предметов, кроме старания угадать, что бы могло быть причиной такой перемены. Всегда ясное, открытое лицо ее — глаза, выражавшие уверенность и безбоязненную невинность, искренний взгляд и уста, казавшиеся всегда готовыми произнести с откровенностью и добротой то, что внушало им сердце, — все это совершенно изменилось, и притом в такой степени, что этой перемены нельзя было истолковать обыкновенными причинами. Усталость могла согнать румянец с лица красавицы, внезапная болезнь могла помрачить блеск глаз и придать грустное выражение лицу. Но глубокая скорбь, с которой она иногда потупляла глаза, робкие, боязливые взгляды, которые она бросала вокруг себя, должны были происходить от какого-то другого обстоятельства. Никакая болезнь, никакая усталость не могли вызвать судорожных движений, губ, как бы в ожидании чего-то страшного; ни объяснить невольно овладевающего ею трепета, который она не иначе как с большим усилием преодолевала. Такая сильная перемена должна была иметь в сердце тяжкую и болезненную причину. — Что же это могло быть?
Опасно юноше смотреть на красавицу, когда она, в полном блеске своих прелестей, каждым взором одерживает победы — но еще опаснее видеть ее в те минуты неги и непринужденности, когда, уступая влиянию милой прихоти, она ищет предмета для своей склонности, стараясь вместе с тем и сама нравиться. Есть люди, которых еще более трогает красота в горести, внушающая нежное сострадание, и желание утешить печальную красавицу; эти чувства уже очень близки к любви. Но на ум, напитанный романтическими понятиями средних веков, вид молодой, привлекательной девицы, пораженной ужасом и страждущей без всякой видимой причины, может быть, производил еще более впечатления, чем красота в ее блеске, в ее нежности, или в огорчении.
Молодой Филипсон смотрел на Анну Гейерштейнскую с таким сильным любопытством, с такой нежностью и состраданием, что все окружающее его многолюдное общество как будто исчезло, оставляя его в шумной зале одного с предметом, его занимающим.
Какая же причина была в состоянии так сильно расстроить и довести почти до совершенного отчаяния девушку, отличающуюся таким возвышенным умом, такой неустрашимостью?
Чего она могла бояться, когда под защитой людей, может быть храбрейших в целой Европе, и в стенах укрепленного замка даже самая робкая из ее пола могла бы быть спокойной? Если бы даже на них и произвели нападение, то, конечно, шум битвы не более устрашил бы ее, чем рев водопада, к которому она при Артуре показала столько презрения. По крайней мере, подумал он, ей бы следовало вспомнить, что здесь есть человек, обязанный из дружбы и признательности сражаться за нее до последней капли крови. Дай Бог, — продолжал он в своей мечтательности, — чтобы мне только представилась возможность не словами, а делом доказать неизменную мою решимость защищать ее, несмотря ни на какие опасности.
Между тем как мысли эти быстро пролетали в уме его, Анна, судорожно вздрогнув и подняв глаза, боязливо осмотрела всю залу, как бы ожидая увидеть между известными ей спутниками какой-нибудь страшный призрак; наконец, глаза ее встретились с глазами молодого Филипсона, пристально на нее устремленными. Она тотчас опустила глаза, и яркий румянец, разлившийся по щекам, невольно выдал силу ее чувств.
Артур со своей стороны почувствовал, что он покраснел так же, как и молодая девушка. Он отошел в сторону, чтобы не быть ею замеченным. Но когда Анна встала и в сопровождении дяди вышла в свою спальню, то Артуру показалось, что она унесла с собой из залы весь свет и оставила его в унылых сумерках погребальной пещеры. Он еще больше углубился в раздумье о предмете, столь сильно его тревожившем, как вдруг в этот самый момент мужественный голос Донергугеля раздался у него над ухом.
— Дружище! Неужели ты с дороги так устал, что стоя засыпаешь?
— Не дай Бог, гауптман, — сказал англичанин, опомнясь от своей задумчивости и величая Рудольфа этим званием, которое все молодые люди, составляющие стражу, единогласно ему представили, — не дай Бог, чтобы я спал, когда нужно бодрствовать.
— Где ты намерен быть, когда запоет первый петух? — спросил швейцарец.
— Там, куда призовет меня долг мой или твоя опытность, гауптман, — отвечал Артур. — Но если ты позволишь, то я желал бы встать на часы вместо Сигизмунда на мосту до полуночи. Он еще чувствует боль от ушиба на охоте, и я советовал ему хорошенько отдохнуть, чтобы вернуть свои силы.
— Он хорошо сделает, если не станет этого разглашать, — шепнул ему на ухо Донергугель, — дядя не такой человек, который бы одобрил столь ничтожную причину для уклонения от обязанности. Состоящие под его начальством должны иметь так же мало мозга для рассуждений, как бык; такие же крепкие члены, как у медведя, и быть столь же нечувствительными, как свинец или железо, во всех случаях жизни.
— Я довольно долго гостил у Бидермана, — отвечал Артур, — однако не видал примеров такой строгой подчиненности.
— Ты чужестранец, — сказал Рудольф, — и старик слишком гостеприимен для того, чтобы чем-нибудь стеснить тебя. Ты у нас гость и тебе предоставляется принимать участие в наших забавах или воинских обязанностях; а потому я предлагаю тебе идти со мной в обход после первого петуха в таком только случае, если эта служба согласна с твоим собственным желанием.
— Я считаю себя теперь совершенно под твоим начальством, — сказал Артур, — но оставя лишние условности, скажу, что, когда меня в полночь сменят с часов на мосту, я был бы очень рад прогуляться подальше.
— Не будет ли слишком утомительно для тебя налагать на себя без нужды такую обязанность?
— Я не больше беру на себя, чем ты, — сказал Артур. — Ведь ты также намерен пробыть на страже целую ночь?
— Правда, — отвечал Донергугель, — но я швейцарец.
— А я англичанин, — прервал его с живостью Артур.
— Я не в том смысле это говорю, как ты принимаешь, — сказал Рудольф с улыбкой, — я только думал, что меня гораздо ближе касается, чем тебя, чужестранца, это дело, нам лично порученное.
— Я, конечно, чужестранец, — возразил Артур, — но чужестранец, пользовавшийся вашим гостеприимством и который потому имеет право, пока находится с вами, разделять ваши труды и опасности.
— Пусть будет по-твоему, — сказал Рудольф Донергугель. — Я кончу первый мой обход к тому времени, как часовые в замке сменятся, и тогда готов буду начать второй обход в твоем приятном обществе.
— Согласен, — сказал англичанин, — теперь я пойду к своему месту; Сигизмунд, я думаю, уже винит меня в том, что я позабыл свое обещание.