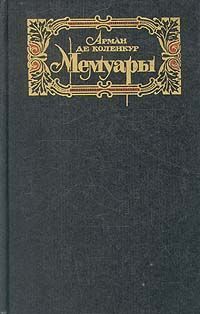Арман Коленкур - Поход Наполеона в Россию
Он был слишком доволен тем, что находится в Вильно, ему слишком хотелось поздравить себя с желанным успехом, на который он, быть может, уже не надеялся чтобы он мог пойти на соглашение. Но в то же время он был серьезен, озабочен, можно даже сказать мрачен. Несколько вырвавшихся у него слов доказывали, что отступление без боя, продолжавшееся после переправы через Неман, потери во время перехода до Вильно и еще больше — облик страны навели его на размышления, мало похожие на те иллюзии, которые он так долго лелеял. Но император не был человеком, способным отступить перед трудностями; они лишь возбуждали, а не обескураживали этого великого человека. Он говорил во всеуслышание, — очевидно для того, чтобы объяснить любопытствующим глупцам тот прием, который он приготовлял для Балашева и который был весьма неожиданным после его шуток насчет предполагаемой цели миссии Балашева, — что он ведет против России политическую войну и, не имея личных обид против императора Александра, хорошо примет его адъютанта.
Балашев привез письмо от императора Александра, и ему было поручено сделать на словах заявления, соответствующие содержанию письма, а именно запросить о мотивах этого нашествия среди полного мира, без всякого объявления войны и предложить, — так как России неизвестен ни один обоснованный повод к недоразумению между двумя странами, — объясниться и предотвратить войну, если император Наполеон согласен в ожидании исхода переговоров возвратиться на свои позиции за Неман. Некоторым, посвященным в тайну этого предложения, показалось, что быстрота нашего движения сразу привела в замешательство и расстройство военные планы русских, что, попав в затруднительное положение и сомневаясь в возможности соединиться до Двины с корпусом Багратиона, император Александр решил испробовать это средство, чтобы попытаться остановить наше наступательное движение при помощи каких-нибудь переговоров. Я повторяю то, что говорилось, так как у меня в то время не было никакого ясного представления об этом. Я знал только, что император Наполеон открыто сказал при мне, при князе Невшательском, герцоге Истрийском и, кажется, Дюроке:
— Александр насмехается надо мной. Не думает ли он, что я вступил в Вильно, чтобы вести переговоры о торговых договорах? Я пришел, чтобы раз навсегда покончить с колоссом северных варваров. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы. Даже при Екатерине русские не значили ровно ничего или очень мало в политических делах Европы. В соприкосновение с цивилизацией их привел раздел Польши. Теперь нужно, чтобы Польша в свою очередь отбросила их на свое место. Уж не сражения ли при Аустерлице и Фридланде или Тильзитский мир освящают претензии моего брата Александра? Надо воспользоваться случаем и отбить у русских охоту требовать отчета в том, что происходит в Германии. Пусть они пускают англичан в Архангельск, на это я согласен, но Балтийское море должно быть для них закрыто. Почему Александр не объяснился с Нарбонном или с Лористоном, который был в Петербурге и которого царь не пожелал принять в Вильно100 ? Румянцев до последнего дня не хотел верить в войну. Он убеждал Александра, что наши передвижения — только угрозы и что я слишком заинтересован в сохранении союза с Россией, чтобы решиться на войну. Он считал, что разгадал меня и что он более проницательный политик, чем я. Теперь Александр видит, что дело серьезно, что его армия разрезана; он испуган и хочет помириться, но мир я подпишу в Москве. Я не хочу, чтобы петербургское правительство считало себя вправе сердиться на то, что я делаю в Германии, и чтобы русский посол осмеливался угрожать мне, если я не эвакуирую Данциг. Каждому свой черед. Прошло то время, когда Екатерина делила Польшу, заставляла дрожать слабохарактерного Людовика XV в Версале и в то же время устраивала так, что ее превозносили все парижские болтуны. После Эрфурта Александр слишком возгордился. Приобретение Финляндии вскружило ему голову. Если ему нужны победы, пусть он бьет персов, но пусть он не вмешивается в Дела Европы. Цивилизация отвергает этих обитателей севера. Европа должна устраиваться без них.
Балашев был хорошо принят императором, который пригласил его на обед вместе с князем Невшательским, герцогом Истрийским и мною101 . Я был более чем удивлен этой милостью, которая, впрочем, не могла относиться лично ко мне, так как император давно уже отучил меня от всех милостей. Император прекрасно отнесся к Балашеву и много разговаривал с ним. Во время послеобеденной беседы его величество сказал, обращаясь ко мне:
— Император Александр хорошо обращается с послами. Он думает, что своими любезностями делает политику. Из Коленкура он сделал русского.
Это был обычный упрек. Так как он не мог меня задеть перед моими соотечественниками, которые достаточно хорошо знали меня, чтобы разделить мое отношение к мотивам этих упреков, то я обычно не обращал на него внимания.
Но на сей раз он был намеренно повторен как титул, под которым меня хотели рекомендовать императору Александру. Я обиделся и не мог удержаться от ответа императору, которому я с оскорбленным видом сказал:
— Именно потому, конечно, что моя откровенность слишком хорошо доказала вашему величеству, что я — прекрасный француз, ваше величество хотите сделать вид, что сомневаетесь в этом. Знаки благоволения, которыми императору Александру часто угодно было меня почтить, были направлены по адресу вашего величества. Будучи вашим верным слугой, государь, я никогда их не забуду.
Император, заметив, что я был возбужден, заговорил на другие темы и вскоре отпустил Балашева.
Перед обедом император поручил мне повидать этого генерала и сообщить, что он даст ему своих лошадей для возвращения в расположение русской армии; он приказал мне также согласовать с начальником штаба маршрут В вопрос о его эскорте. Я говорил с Балашевым не больше минуты и просил повергнуть мое почтение к стопам его повелителя.
Когда Балашев вышел от императора, его величество шутя сказал мне, что я напрасно рассердился на его слова о том, что я сделался русским; с его стороны это была лишь любезность с целью доказать императору Александру, что я не забыл знаки его благосклонности.
— Вы огорчаетесь, — прибавил император, — тою неприятностью, которую я намерен причинить вашему другу. Его армии не смеют дожидаться нас; они уже не спасают ни чести своего оружия, ни чести правительства.
Не пройдет и двух месяцев, как русские вельможи принудят Александра просить у меня мира.
К своим обычным обвинениям он прибавил еще и другие, чтобы доказать князю Невшательскому, герцогу Истринскому и, вероятно, двум-трем присутствовавшим адъютантам, что я против этой войны и порицаю его систему. Он несколько раз повторил, что эта война самая политическая из всех, которые он когда-либо предпринимал, что Россия после Тильзита ничего не сделала для союза и очень мало или даже вовсе ему не помогла во время австрийского похода. Он упрекал Россию в том, что она покровительствует английской торговле. Он старался показать, что Австрия довольна этой войной, надеясь, что война вернет ей ее морские провинции взамен Польши, которой она не придает большого значения.
Я был так оскорблен упреком "вы русский", что не мог сдержаться. Я ответил императору, что я в большей мере француз, чем те, кто подстрекал к этой войне, так как я всегда говорил ему правду, между тем как другие сочиняли сказки, чтобы его подстрекать, надеясь угодить ему этим; я знаю свой долг почтения к моему повелителю, и терпел его шутки в присутствии моих соотечественников, уважение которых мне обеспечено, но подвергать сомнению мою верность и мои чувства француза в присутствии иностранца — это значит оскорблять меня; раз уж его величество говорит об этом публично, то я горжусь тем, что я против этой войны и сделал все, чтобы предотвратить ее; я горжусь даже теми неприятностями и огорчениями, которые мне пришлось из-за этого перенести; я вижу уже давно, что мои услуги ему более не угодны, и прошу уволить меня; так как я не могу с честью возвратиться домой, пока продолжается война, то прошу его дать мне какую-нибудь командную должность в Испании и разрешить отправиться туда завтра же.
Император ответил мне очень спокойно:
— Кто же сомневается в вашей верности? Я отлично знаю, что вы честный человек. Я ведь только шучу. Вы слишком щепетильны. Вы хорошо знаете, что я отношусь к вам с уважением. Сейчас вы говорите вздор. Я не стану отвечать на все, что вы мне только что сказали.
Признаюсь, я был до такой степени вне себя, что вместо того чтобы успокоиться, был готов наговорить императору еще более неуместные вещи.
Герцог Истрийский потянул меня за одну полу, князь Невшательский — за другую; оба они уговаривали, умоляли меня не отвечать. Император, по-прежнему сохранявший терпение и говоривший с прежней добротой, видя, что меня не удается привести в рассудок, удалился в свой кабинет, оставив меня с этими господами, которые тщетно пытались увести и успокоить меня. Я потерял голову. Наконец, я ушел к себе, твердо решившись уехать. Я лег спать лишь после того, как привел все в порядок и приготовился к отъезду. На другой день с самого утра я обратился к Дюроку с просьбой принять на себя исполнение моих обязанностей и испросить соответствующие распоряжения от императора. Он уговаривал меня, но безрезультатно.