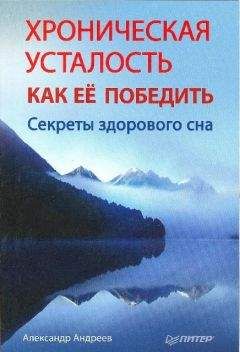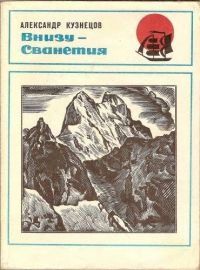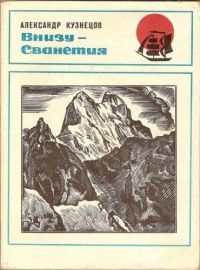Юрий Давыдов - Анатомия террора
Сортир был просторный, как в казармах.
– Ты, парень, мигом, – буркнул жандарм, не переступая порога и крутя носом.
– Мигом, дядя, только вот запором маюсь.
– Меньше жрать надоть, – выставил диагноз жандарм, недовольный дурацким своим постом у заводского ретирадного места.
Сизов уединился. В разбитом окне розовел и клубился полуденный мороз. Нил примерился к оконному проему. Нахлобучил шапку. «И-эх, спаси и помилуй!»
Зайцем стреканул он за груды ржавого железа, на цыпочках, как пританцовывая, скользнул меж дымивших холмов шлака, выскочил позади пакгаузов на запасные порыжелые пути и припустил во все лопатки.
Он несся в сторону Ваганькова, хватая грудью студеный воздух, перепрыгивая стрелки, мотки проволоки, шпалы, поленницы.
3
За старшего Сизова взялся плотный господинчик, брюхастенький, русый, с выпуклыми глазами бутылочного стекла.
Дмитрием Сизовым занялась не мелкая охранная сошка, а сам Скандраков, Александр Спиридонович Скандраков, начальник московского секретно-розыскного отделения. Приятель и сослуживец Судейкина, он не без основания считался alter ego[2] главного инспектора государственной полиции.
Дмитрия Сизова отделили от прочих. Не потому, что он не участвовал в погроме конторы. Нет, г-н Скандраков отделял овец от козлищ. В этом Сизове он угадывал запевалу.
Как и Георгий Порфирьевич, Скандраков принадлежал к розыскным деятелям новой формации. Ему претило показное жандармское рвение, ничего не значило число уловленных. Во сто крат была для него важнее паутинная осведомительская сеть, а не дуроломное изъятие недозревших преступников.
– Прошу садиться.
Скандраков помещался далеко от Дмитрия, на другом конце узкой длинной комнаты. «Боится, сволочь», – подумал Сизов, вглядываясь в брюхастенького.
И тот, казалось, тоже не без интереса всматривался в Сизова. Потом заговорил. Неторопливо и очень уверенно, будто наперед все зная. Тоном строгим говорил, но не угрожающим. Глаза грозили, голос нет.
Противоречивость эта раздражала Дмитрия, он, однако, вспомнил, что Златопольский рассказывал о поведении революционеров в застенках, и решил блюсти вежливость, собственное достоинство, а главное – «не давать фарисею ни зацепочки». Но это-то последнее и оказалось самым трудным.
На утверждение Скандракова, что он, Сизов, давно уже «в революции», Дмитрий возразил:
– Какая там «революция»? Я в мастерской с шести до шести, а то и на весь вечер останусь. Книжку почитать и то времени нет.
– Тэк-с, на книжку времени нету? Да они небось трудные, а? – Скандраков проницательно улыбнулся. – Политическая экономия, да? Миртова «Исторические письма»? – И наклонился доверительно: – А кто советует такое читать? Ведь есть благодетель – советует! И номерок «Народной воли» принесет, не так ли? Ну-с, какие ж мы книжки читаем?
– А какие подвернутся.
– А где ж берем?
– Покупаю.
– И «Народную волю» покупаем? Вы же народоволец, а?
– Я про таких не слыхал.
– Да? Простачком будем прикидываться? Я не я? А ведь как бы не пожалеть: мышеловочка хлоп – и пожалеете. Вы, Дмитрий, в расцвете, руки золотые. Ну зачем это вам, к чему? Все впереди, ан вдруг и мышеловочка. К чему этакое?
«Сволочь, – накалился Сизов, – пожалел волк кобылу».
– В толк не возьму, чего держите? – спросил он, глядя на Скандракова с плохо скрытой ненавистью. – Контору не громил, всякий подтвердит, а меня вторую неделю ни за что ни про что. Работать надо, матери помогать, я, может, уж сороковку потерял.
– Очень понимаю, – живо откликнулся чиновник. – У меня, Дмитрий, тоже мать-старушка, как не понять. Примерный сын, похвально. А мы вам, Дмитрий Яковлевич, за все и заплатим. Что? Ой, господи, как же вы так превратно поняли? Деньгами заплатим. Что-с? Привыкли работать и за работу получать? Опять же похвально. А как иначе? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Конечно, за работу. Мы работу дадим. Мы здесь тоже в социализме малость смыслим, да, да, не думайте, пожалуйста. Вот хоть меня взять. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Я, ежели хотите знать, социалист. Но государственный! Да-с, государственный социалист. Коли изволите, социал-монархист. В социализме есть зерно истины. Капиталисты, согласен, обиралы, наживалы, захребетники. Но только твердая власть может защитить бедных, заставить богатых поделиться с бедными. А нам мешают, не дают, к жестокости понуждают. А куда, к чему зовут вас народовольцы? «Воля», хе-хе-хе... Да они к власти рвутся, сами для себя, вот что, Дмитрий Яковлевич. Вы хоть и народоволец, да они и вас вокруг пальца обводят, а мы вам, ей-богу, поможем.
Сизова поташнивало. Встать бы да и хрясть эту сволочь по соплям, встать да и припечатать, чтоб дух вон. Но Сизов не взорвался. Повторял:
– Другой работы не возьму, я свою люблю. И денег не возьму. Отпустите вы меня, не наигрались, что ли?
– Какая игра? Какая игра, господин Сизов? – приобиделся Скандраков и короткими ножками посучил. – Кто же это играет? Я с вами играю? – И выдохнул с чувством: – Эх, Дмитрий, Дмитрий!
– Знаю, как вы играете, – бухнул Сизов.
– Знаете? Откуда же? Кто рассказывал? Ведь не с неба ж, а? Ну кто? Кто?
– Насильничаете, – озлобился Дмитрий, сознавая, что не следует так отвечать, но уже почти не владея собою.
Теперь Скандраков и вправду обиделся. Новатор в секретной полиции, он не считал себя инквизитором, понимая насилие в прямом, физическом смысле. Замечание Сизова задело его.
– У вас к нам нехорошее отношение, – молвил Скандраков со строгой укоризною. – Мы отечество от хулы и хаоса бережем, а вы... «насильничаете»! Ну кто это вам внушил? Откуда вы это взяли? Я вам открою: раньше, в прежние-то времена, бывало, хотя и тут много напраслины возводят. Но теперь! Э нет, Сизов, вы это запомните: никаких насилий. Вы вот лучше скажите-ка, кто вам внушил такое?
– Ничего не скажу, оставьте меня.
Скандраков молча рылся в бумагах. Потом устало вздохнул.
– Н-да-с, характерец у тебя, Сизов, не леденец. А братец единокровный, тот, знаешь ли, покладистее.
Дмитрий не понял. Только будто гром отдаленно прогремел.
– Помоложе годами, – продолжал Скандраков, твердо уставляя в Дмитрия бутылочные глаза, – помоложе, но, знаешь ли... – Он приложил палец ко лбу. – Себе на уме молодой человек-с.
Сизова как на ухабе подбросило.
– Врешь, сволочь!
Бдительный палец Скандракова мог бы и не нажимать пуговку электрического звонка: верзила-гайдук был уж в кабинете.
– Ничего, ничего, – повторял Скандраков, адресуясь не то к верзиле, не то к себе самому, а может, и к Сизову. – Ничего, бывает. – Он щелкнул серебряным портсигаром. Удивительно, как портсигары вовремя приходят на помощь чиновникам политической полиции. – Садись, садись, Сизов. Куришь?
Дмитрий кивнул. Ему было так скверно, что он и не подумал, следует ли тому, кто «в революции», одолжаться табаком у врага. Гайдук подал папиросу, поднес спичку. Дмитрий затянулся, голова у него пошла кругом, точь-в-точь как в мальчишестве, когда он впервые прилепил самокрутку на мокрую губу. Скандраков поплыл, по столу заходили враскачку медные высокие подсвечники, Дмитрию казались они циркулями, какие были в чертежной при мастерских.
Скандраков опять заговорил. Он не называл имени Нила, он как бы в пространство рассуждал о тех, что «хоть и помоложе, но...». И Дмитрий уже не вскакивал, не кричал, а сидел пригнувшись, зажимая в кулаке папиросу, и, коротко, быстро затягиваясь, слушал Скандракова:
– ...выпустим, конечно, зачем держать, но я не вправе скрыть некоторые обстоятельства: станут часто сюда приглашать, вам, батенька, от этого не уйти, ну и, натурально, заподозрят товарищи ваши, то-се, шепотком, а потом, смотришь, и нож найдется, как уже случалось не раз. А скрыться... – Он ладошками в стороны махнул, как ангелочек крылышками. – Скрыться, не обессудьте, не придется. Вы вот не цените моей доверенности, а я вам прямо говорю: филеров приставлю-с. И, ей-богу, зря упрямитесь.
Освободили на Масленицу. Сизов, щетинистый, вшивый, вышел из арестантского дома в гукающую теплую метелицу. Он чуть было не угодил под бубенчатого троечника, бабьи румяные лица вспыхнули, из трактира пахнуло блинным духом, и Дмитрию вдруг захотелось плакать, напиться и плакать, обминая пальцами чьи-то обнаженные круглые плечи.
Сани летели плавно, как сама государыня-метелица, Дмитрий слышал женский смех. Наверное, и мужчины смеялись, он слышал только женщин. А сани мчали к Новодевичьему монастырю, туда, где гуляет широкая Масленица, где балаганы, горки и снежный дым над Москвой-рекой, до самых Воробьевых гор. И по Тверской бежали санки, легко оставляя позади унылую конку, к Петровскому замку летели, на большой круг в роще, где тоже гуляли.
Уже болезненной синевою подрагивали керосиновые фонари, уже освещались окна, в них шатались тени, а метелица все гукала, ходила плавно, как и положено на Москве в Масленую неделю.