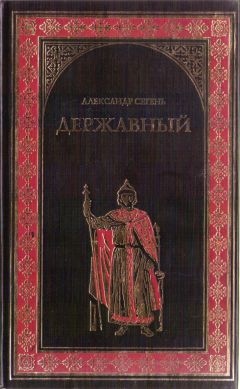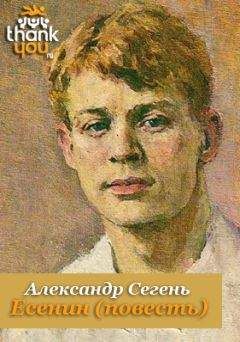А. Сахаров (редактор) - Николай I
– По две шкуры с нас дерут, анафемы! – злобно шипел беззубый старичок дворовый, в лакейской фризовой[48] шинели со множеством воротников.
– Народу жить похужело, всему царству потяжелело! Томно так, что ой-ой-ой! – вздыхала баба с красным лицом и веником под мышкой, должно быть прямо из бани. А лупоглазая девчонка, в длинной кацавейке мамкиной, разинув рот, жадно слушала, как будто всё понимала.
– И, видя оное притеснение лютое, – продолжал мастеровой, – государь Константин Павлович, пошли ему Господь здоровья, пожелал освободить российскую чернь от благородных господ…
– Господа благородные – первейшие в свете подлецы! – послышались голоса в толпе.
– Отжили они свои красные дни! Вот он потребует их, варваров!
– Недолго им царствовать – не сегодня, так завтра будет с них кровь речками литься!
– Воля, ребята, воля! – крикнул кто-то, и вся толпа, как один человек, скинула шапки и перекрестилась.
– Сам сюда идёт расправу творить, уж он у Пулкова!
– Нет, взяли за караул, заковали в цепь и увезли!
– Ах ты, сердечный, болезный наш!
– Ничего, братцы, небось, отобьём!
– Ура, Константин!
– Идут! Идут! – услышал Голицын и, оглянувшись, увидел, что со стороны Адмиралтейского бульвара, из-за забора Исаакия, появилась конная гвардия. Всадники, в медных касках и панцирях, приближались гуськом, по три человека в ряд, осторожно-медленно, как будто крадучись.
– Ишь, как мухи сонные ползут. Не любо, чай, бедненьким! – смеялись в толпе.
А солдаты в мятежном каре, заряжая ружья, крестились:
– Ну, слава Богу, начинается!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Генерал-губернатор граф Милорадович подскакал к цепи стрелков, выставленных перед фронтом мятежников. В шитом золотом мундире, во всех орденах, в голубой Андреевской ленте, в треугольной шляпе с белыми перьями, он сидел молодцом на гарцующей лошади.
Попал прямо на площадь из уборной балетной танцовщицы Катеньки Телешовой. На помятом лице его с жидкими височками крашеных волос, пухлыми губками и маслеными глазками было такое выражение, как будто он всё это дело кругом пальца обернёт.
– Стой! Назад поворачивай! – закричали ему солдаты, и стальное полукольцо штыков прямо на него уставилось.
«Русский Баярд, сподвижник Суворова[49], в тридцати боях не ранен – и этих шалунов испугаюсь!» – подумал Милорадович.
– Полно, ребята, шалить! Пропусти! – крикнул и поднял лошадь в галоп на штыки с такою же лихостью, с какою, бывало, на полях сражений, под пушечными ядрами, раскуривал трубку и поправлял складки на своём щёгольском плаще амарантовом. «Бог мой, пуля на меня не вылита!» – вспоминал свою поговорку.
А простые глаза простых людей, как стальные штыки, прямо на него уставились: «Ах ты, шут гороховый, хвастунишка, фанфаронишка!»
– Куда вы, куда вы, граф! Убьют! – подбежал к нему Оболенский.
– Не убьют, небось! Не злодеи, не изверги, а шалуны, дурачки несчастные. Их пожалеть, вразумить надо, – ответил Милорадович, выпятив мягкие, пухлые губы чувствительно.
По угрюмой злобе на лицах солдат Оболенский видел, что ещё минута – и примут на штыки фанфаронишку.
– Смирна-а! Ружья к ноге! – скомандовал и схватил под уздцы лошадь Милорадовича. – Извольте отъехать, ваше сиятельство, и оставить в покое солдат!
Лошадь мотала головой, бесилась, пятилась. Узда острым краем ремня резала пальцы Оболенского, но, не чувствуя боли, он не выпускал ремня из рук.
Адъютант Милорадовича, молоденький поручик Башуцкий, с перекошенным от страха лицом, подбежал, запыхавшись, и остановился рядом с лошадью.
– Да скажите же ему хоть вы, господин поручик, – убьют! – крикнул ему Оболенский.
Но Башуцкий только махнул рукой с безнадёжностью.
А Милорадович уже ничего не видел и не слышал. Пришпоренная лошадь рванулась вперёд. Оболенский едва не упал и выпустил узду из рук. Цепь стрелков расступилась, и всадник подскакал к самому фронту мятежников.
– Ребята! – начал он, видимо, заранее приготовленную речь с самонадеянной развязностью старого отца-командира. – Вот эту самую шпагу, видите, с надписью: «Другу моему Милорадовичу», – подарил мне в знак дружбы государь цесаревич Константин Павлович. Неужели же я изменю другу моему и вас обману, друзья?
Неловко, бочком протискиваясь сквозь шеренгу солдат, подошёл Каховский и остановился в двух-трёх шагах от Милорадовича. Левую руку положил на рукоять кинжала, заткнутого за красный кушак, – Оболенский заметил, что из двух пистолетов за кушаком остался только один, – а правую – неуклюже, неестественно, точно вывихнутую, засунул под распахнутый тулуп, за пазуху.
– Разве нет между вами старых служивых суворовских? Разве тут одни мальчишки-канальи, фрачники? – продолжал Милорадович, взглянув на Каховского.
А тот, как будто внимательно прислушиваясь, смотрел в лицо его прямо, недвижно, неотступно пристально. И от этого взгляда вдруг страшно стало Оболенскому. Почти не сознавая, что делает, он выхватил ружьё у стоявшего рядом солдата и начал колоть штыком в бок лошадь Милорадовича. Каховский оглянулся, и Оболенскому почудилась в лице его усмешка едва уловимая.
Лошадь взвилась на дыбы. Знакомый звук послышался Милорадовичу, как будто выскочила пробка из бутылки шампанского. «Вот оно!» – подумал он, но уже не успел прибавить: «Бог мой, пуля на меня не вылита!»
В белом облачке дыма проплыла белая юбочка балетной танцовщицы; две розовые ножки торчали из юбочки, как две тычинки из чашечки цветка опрокинутой. Выпятились пухлые губы старчески-младенчески, как, бывало, в последнем акте балета, когда он, хлопая в ладоши, покрикивал: «Фора, Телешова, фора!» Последний поцелуй воздушный послала ему Катенька, и опустилась чёрная занавесь.
Вдруг вскинул руки вверх и замотался, задёргался, как пляшущий на нитке паяц. С головы свалилась шляпа, оголяя жидкие височки крашеных волос, и по голубому шёлку Андреевской ленты заструилась струйка алая.
Оболенский почувствовал, как острое железо штыка вонзается во что-то живое, мягкое, хотел выдернуть и не мог – зацепилось. А когда облачко дыма рассеялось, увидел, что Милорадович, падая с лошади, наткнулся на штык, и остриё вонзилось ему в спину, между рёбрами.
Наконец, со страшным усилием, Оболенский выдернул штык.
«Какая гадость!» – подумал, так же как тогда, во время дуэли со Свиньиным, и лицо его болезненно сморщилось.Ружейный залп грянул из каре, и «ура, Константин!» прокатилось над площадью, радостное. Радовались, потому что чувствовали, что только теперь началось как следует: переступили кровь.
Каховский, возвращаясь в каре, так же как давеча, пробирался неловко, бочком. Лицо его было спокойно, как будто задумчиво. Когда послышались крики и выстрелы, он с удивлением поднял голову, но тотчас опять опустил, как будто ещё глубже задумался.
«Да, этот ни перед чем не остановится. Если только подъедет государь, несдобровать ему», – подумал Голицын.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
– Представь себе, Комаровский[50], есть люди, которые, к несчастью, носят один с нами мундир и называют меня… – начал государь, усмехаясь криво, одним углом рта, как у человека, у которого сильно болят зубы, и кончил с усилием: – Называют меня самозванцем!
«Самозванец» – в устах самодержца российского – это слово так поразило генерала Комаровского, что он не сразу нашёлся что ответить.
– Мерзавцы! – проговорил наконец и, чувствуя, что этого мало, выругался по-русски, непристойным ругательством.
Государь, в одном мундире Измайловского полка, в голубой Андреевской ленте, как был одет к молебствию, сидел верхом на белой лошади, окружённый свитою генералов и флигель-адъютантов, впереди батальона лейб-гвардии Преображенского полка, построенного в колонну на Адмиралтейской площади, против Невского.
Тишина зимнего дня углублялась тем, что на занятых войсками площадях и улицах езда прекратилась. Близкие голоса раздавались, как в комнате, а издали, со стороны Сената, доносился протяжный гул, несмолкаемый, подобный гулу морского прибоя, с отдельными возгласами, как будто скрежетами подводных камней, уносимых волной отливающей: «Ура-ра-ра!» Вдруг затрещали ружейные выстрелы, гул голосов усилился, как будто приблизился, и опять: «Ура-ра-ра!»
Генерал Комаровский поглядывал на государя украдкой, искоса. Под низко надвинутою треугольною чёрною шляпою с чёрными перьями лицо Николая побледнело прозрачно-синеватой бледностью, и впалые, тёмные глаза расширились. «У страха глаза велики», – подумал Комаровский внезапно-нечаянно.
– Слышишь эти крики и выстрелы? – обернулся к нему государь. – Я покажу им, что не трушу!