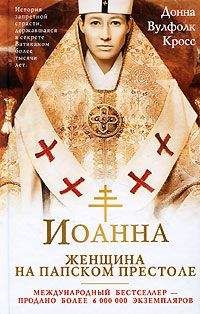Иван Наживин - Распутин
Дверь отворилась, и в избу шагнул Петр Хлупнов, похудевший, как и все, оборванный, но, как всегда, сосредоточенный в себе и спокойный.
— Сергею Терентьичу… — поздоровался он. — Как, все пописываешь?
— Да. Хочу про дела наши крестьянские описать, да что-то вот не клеится дело…
— Много, много бумаги вы изводите, говорить нечего… — сказал Петр, садясь. — Да что, брат, и я вашим примером заразился: вот письмо самому Ленину написал… Хочу прочитать сперва тебе, посоветывать-ся…
И он вытащил из-за пазухи вчетверо сложенный большой лист очень серой бумаги, порядочно уже помятый.
— Ну, ну, прочитай… — сказал Сергей Терентьевич. — Это любопытно…
Петр развернул свое послание, откашлялся и обычно серьезным тоном своим начал:
«Ленин! Ты прозывается рабоче-крестьянским правителем, значит, мы, крестьяне, можем разговаривать с тобой про все дела. И вот я, крестьянин Окшинской губернии, села Уланки, Петр Хлупнов, пишу тебе это письмо, чтобы сказать, что ты очень ошибаешься и повел ты людей не туда, куда следовало. Надо смотреть в корень жизни, а не по верхам. Ежели ты взял власть над людьми, так это для сурьозного дела, а не для того, чтобы крутить и так, и эдак. Первое дело я очень недоволен тобою тем, что ты проливаешь кровь человеческую, как разбойник. Ежели кто что не так делает, не так понимает, то нужно такого человека обрезонивать, а не то, чтобы колом по голове или там застрелить и конец делу. В этом ума большого я не вижу с твоей стороны. И опять сколько народу гноишь ты по тюрьмам. Опять говорю тебе: ежели поступает какой нехорошо, научи его, как поступить лучше, а не отдавай его на съедение вшам. И опять же кормить таких людей нужно. Сам ты их не кормишь, а заставляешь других кормить. Не одобряю я тебя очень и за то, что ты натравляешь одних людей на других из-за всякого ихнего имущества. Дело совсем не в том, чтобы заводить свары из-за всякого дерьма, а в том, чтобы дерьмом этим совсем не антиресоваться и жизнь свою им не загромождать и жить в полном благодушестве. Нельзя человеку оказывать себя глупее галки там или червяка. В ученых книжках ваших я читал, когда еще по городам слонялся, что по-вашему, по-ученому, жизнь это выходит война. А я прямо говорю тебе, Ленин, в глаза: большая это глупость с вашей стороны! Борьба — это мучение, а жизнь — радость. И потому надо прекратить всякую борьбу: умный человек не может воевать с поляками за клок земли, ни с богачами за имущество их, ни даже с землей за урожай. Надо, чтобы кажний требовал себе всего как можно меньше, тогда хватит всего всем и без борьбы, и будет всем легко и просторно. Старик Толстое и с ним многие другие уверяют, что там по-божьи, что не по-божьи. В этом я надобности не вижу разбираться: просто надо все делать от разума. Ну всего в письме не обскажешь и не так на бумаге кругло выходит, а вот ежели ты вправду крестьянский правитель, пришли мне бумагу такую, чтобы меня к тебе пропустили, и я сам на свои деньги приеду к тебе и докажу, в чем твои ошибки. А ежели ответа от тебя не будет, то я так буду понимать про тебя, что ты есть обманщик не хуже прежних, в чем без всяких обиняков и подписуюсь своей полной подписью: свободный гражданин всей земли Петр Хлупнов». Ну что, как? — поднял он свои серьезные глаза на приятеля.
— Не будет тебе ответа никакого… — сказал Сергей Терентьевич. — У него своя правда есть, и он на нее уповает, как на каменную стену.
— Какая это правда, ежели они из людей волков сделали? — пренебрежительно отозвался Петр. — Люди и раньше-то никуды не годились, а теперь и вовсе перебесились все. Правда… Правда тоже всякая, брат, бывает. Вон наш Ванька Субботин, волосы седые уж, а по всему селу орет, что ты колдун…
— Колдун? — усмехнулся Сергей Терентьевич. — Это с чего же он взял?
— А вот у всех вишь коровы дохнут от этого мора поганого, а у тебя обе здоровехоньки… И почему такоича раньше скот так не дох, а теперь по всей волости валится? Беспременно так, что ты жидами подкуплен, чтобы народ уж окончательно разорить… И все уши развесили, слушают…
— Темным народ был, темным и остался… — уныло сказал Сергей Терентьевич. — И что мы ни бьемся, никак мы его из болота не вытащим. Скорее сами вместе с ним увязнем…
Он тяжело вздохнул.
— А я все-таки письмо свое пошлю… — сказал Петр, вставая.
— Пошли, конечно… Вреды от этого не будет, а скорее польза… — сказал Сергей Терентьевич. — Пусть хошь знают, что не все вместе с ними разбойничать согласны…
Петр ушел. Сергея Терентьевича захватила вдруг его обычная деревенская тоска, порождаемая тяжким сознанием, что тьма душит его, что под ногами у него трясина. Раньше он, чтобы успокоиться и подкрепиться, ехал в таком случае в город, но «Окшинский голос» уже не существовал, «Улей» погиб во время еще войны на первых номерах, а «Окшинский набат» в своем бессильном злопыхательстве на все стороны был совершенно чужд ему. Евгений Иванович был в далеких краях, милого Митрича расстреляли незнамо за что, а семья его бедствовала неописуемо, Станкевич на войне убит, Петр Николаич тоже расстрелян, а Евдоким Яковлевич очень озлобился и замкнулся. И когда говорил он ему об этих новых опасных настроениях деревни, он встречал не непонимание, как прежде, а хуже: полное равнодушие.
— Что? Царя поставят? Тарабукин вернется? — сказал ему как-то раз Евдоким Яковлевич, обтрепанный и голодный. — А наплевать! Хуже, батюшка, Сергей Терентьевич, быть не может… Ты вот лучше скажи, не можешь ли ты по старой дружбе мне мерку или две картошки привезти как-нибудь?
Да и сам он, Сергей Терентьевич, ежели по совести говорить, уже не тот, что раньше: состарился за эти тяжкие годы смуты, растерялся, ни веры прежней нет, ни сил…
Он со вздохом собрал свои бумаги, положил их аккуратно в укладочку, стоявшую под лавкой, и, надев картуз, вышел во двор.
— Куда ты, Терентьич? — спросила его жена.
— Так, разгуляться… — отвечал он, — скушно что-то стало…
— Ты далеко-то не ходи, вечереет уже…
— Нет, я так, поблизости пройдусь…
Это у него было теперь первым лекарством: пойти к Заячьему ключику, посидеть там, посмотреть, помечтать, как хорошо было бы ему тут на хуторе: вот тут бы дом поставить, сюда по склону на полдень сад бы разбить и пчельник, а там, пониже, прудок бы сиял и всякая бы птица возилась в нем. За прудком клевер и поля, а по сю сторону — и хороша же тут земля! — огород бы разбить… Ведь вот все, кажется, самое простое, разумное, доступное, а в то же время теперь обо всем этом и думать нечего, все это отодвинулось на такие сроки, что он, может, своими глазами никогда уж и не увидит этого возможного расцвета мужика…
Он вышел на залитую осенним солнцем улицу и, обходя житницы, столкнулся с Иваном Субботиным. Тот сурово отвернулся от него, делая вид, что не замечает своего недруга, но глаза его сразу налились темной злобой. Иван остановился, тяжело посмотрел вслед шагавшему по солнечной дороге среди зеленей Сергею Терентьевичу и вдруг, точно на что-то решившись, торопливо пошел к дому.
Семья Ивана была большая: прижимистая баба его, Смолячиха, на все дела ловкая, на язык едкая, сын Матвей, что писарем в Пензе всю войну за хорошую взятку отсидел, его жена, двое детей ихних, две грудастых девки-дочери, рябые, с низкими лбами, ломившие всякую мужскую работу. Был еще сын, Киря-матросик, но он пропал без вести на Кубани. Отличительной чертой этой семьи была ее необыкновенная лютость в работе и скопидомство, и если бы сам Иван от времени до времени не пьянствовал и не безобразил, Субботины жили бы еще лучше. И в пьяном виде он становился чистым зверем, и одно слово впоперек, один косой взгляд со стороны семейных, и он садил крутой матерщиной и хватался за кол, вилы, топор, за все, что было под рукой. И никто перед ним и пикнуть тогда не смел. И все они вообще всегда ходили точно налитые злобой, готовые взорваться каждую минуту. За столом они сидели все в хмуром молчании и опять шли на работу, угрюмые и злые: каждому казалось, что другие больше едят, больше спят, меньше работают, меньше заботятся, что вся их жизнь, одним словом, один сплошной убыток. Прежний вольный бунтарский дух беспоповщины от них давно отлетел, они точно окаменели в своих смутных верованиях и буквально были готовы на все, чтобы не уступить новизне ни пяди. И новым для них было не только революция, не только большевизм, но даже табак, чай — Смолячиха определенно утверждала, что чай делается из змеиного жира, а сахар из собачьих костей, — и газеты, и стрижка под польку, и плуги, и травосеяние, и Государственная Дума. И на все это они смотрели подозрительными и злыми глазами.
Иван пришел на свой просторный, чистый и прочный двор, снял со стены ловко прилаженный и всегда острый топор и, накинув старый полушубок на плечи, прошел, пряча топор, усадьбой до гумна, огляделся и быстро и неслышно зашагал зеленями к Заячьему ключику. И в его хмурой голове тяжело, как жернова, ворочались смутные и угрюмые мысли о бедственности новой жизни, о всех тех напастях, которых раньше, как ему теперь казалось, не было и которые появились только вместе с новыми людьми, вместе с новыми словами. И больно ударил его последний повальный падеж скота по уезду: у него пало две коровы и телка — все, что было. А у проклятого шелапута скотина была цела: на пасево он не пускал се, кормил травой, накошенной у себя на усадьбе, и, говорят, посыпал в стойле каким-то порошком. Веры в то, что всему виной шелапут, у Ивана, собственно, не было, но ему было приятно, удобно верить в это, потому что проклятый шелапут этот являлся для него живым и осязательным воплощением всей этой проклятой, страшной, пагубной новизны, от которой идет народу такой большой убыток и такое неприятное во всем шатание…