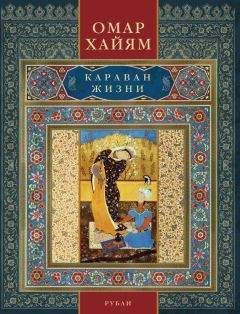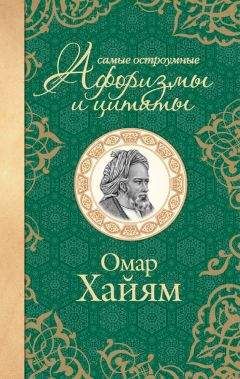Шамиль Султанов - Омар Хайям
Нет никаких данных, свидетельствующих о том, что караханидский правитель, значительную часть своего времени ведший кочевой образ жизни, проявлял бы большой интерес к математике, физике, астрономии, чем прежде всего интересовался в это время Омар Хайям. Помимо рекомендаций такого авторитетного человека, как верховный кади Самарканда, большое влияние на Шамс аль-Мулька могли оказать острый ум нишапурца и его знание религиозных вопросов: умение толковать Коран, знание хадисов и т. д. О том, что Хайям размышлял в этот период и о философских и богословских проблемах, говорят не только превратности его личной судьбы, но и косвенно рассказ арабского историка Табризи: «Я слышал еще, что, когда ученый (Хайям) соблаговолил прибыть в Бухару, через несколько дней после прибытия он посетил могилу весьма ученого автора „Собрания правильного“ (аль-Бухари), да освятит Аллах его душу. Когда он дошел до могилы, ученого осенило вдохновение, и он двенадцать дней и ночей блуждал по пустыне и не произносил ничего, кроме четверостишия:
Хоть послушание я нарушал, господь, Хоть пыль греха с лица я не стирал, господь, Пощады все же жду: ведь я ни разу в жизни Двойным единое не называл, господь.
Вполне возможно, что этот отрывок говорит также и о том, что уже в Мавераннахре Хайям начал писать свои знаменитые рубаи. Именно этот вид четверостиший стал широко распространенной и популярнейшей жанровой формой философской поэзии в персидской литературе. По своей смысловой насыщенности и емкости, цельности поэтической конструкции, простоте, скрывающей нетривиальную сложность, рубаи, пожалуй, можно сравнить лишь с японскими танка[5].
Исторически сложились два вида рубаи. Наиболее распространены четверостишия, в которых рифмуются первая, вторая, четвертая строки (оба полустишия первого бейта и вторая мисра (полустишие) второго бейта), а третья строка остается незарифмованной. Схема рифм такого рубаи — а а б а. Во втором же типе рубаи («песенное рубаи») рифмуется все четыре строки — полустишия — а а а а.
Надо отметить одну примечательную особенность персидского стихосложения. В русской поэзии ритмика силлабо-тонического стиха построена на чередовании ударных и безударных слогов. Тот или иной стихотворный размер определяется количеством и расположением таких слогов. Персидская же поэзия, как древнегреческая и латинская, основана на чередовании долгих и кратких слогов. Долгим считает тот, который образован долгим гласным. Закрытый слог с краткой гласной по долготе звучания равен открытому с долгим гласным. Два кратких слога приравниваются к одному долгому и в схеме какого-либо размера всегда могут быть заменены одним долгим. Но долгий слог, в свою очередь, никогда не заменяется двумя краткими. Таким образом, долгих слогов в стихах значительно больше коротких. Поэтому эмоционально рубаи на персидском языке воспринимаются иначе, глубже и проникновеннее, чем их смысловые переводы, например, на русский язык.
Обычно рубаи строится со строгостью логического силлогизма — это, вероятно, одна из главных причин, привлекшая к ним Хайяма-математика. В первом бейте рубаи заключены посылки, в третьем полустишии, значительность которого так часто акцентируются настораживающим и задерживающим внимание отсутствием рифмы, — вывод, который закрепляется завершающей сентенцией или ассоциацией четвертого полустишия. Однако такое построение не является обязательным. Теснейшая связь рубаи с народной поэтической стихией позволила ему счастливо избегнуть той беспрекословной кодификации структуры, на которую были обречены средневековой схоластической поэтикой все остальные жанры и жанровые формы.
…Омар лежал на спине. Он чувствовал себя глубоко расслабленным, но не опустошенным, а наоборот — цельным в умиротворенности. Ему не было ни хорошо, ни плохо — его состояние было выше этих слов. Сквозь распахнутые настежь окна в комнату проникала сентябрьская ночная прохлада, настоянная на лунном свете.
Мягкая рука Айши ласково касалась его осунувшегося лица. Хайям лежал с закрытыми глазами, но он знал, что она с грустной нежностью смотрит на него. Не разжимая своих век, Омар тихо сказал:
— Послушай, моя дорогая, эти строки родились сейчас в моем сердце для тебя.
Чтоб добиться любви самой яркой из роз,
Сколько сердце изведало горя и слез.
Посмотри: расщепить себя гребень позволил,
Чтобы только коснуться прекрасных волос.
— Еще что-нибудь, — прошептала девушка, прикоснувшись губами к влажному лбу Омара.
Много сект насчитал я в исламе. Из всех
Я избрал себе секту любовных утех.
Ты — мой бог! Подари же мне радости рая
Слиться с богом, любовью пылая, — не грех!
Айша покраснела. Даже в темноте было видно, как вспыхнули от стыда ее глаза. Чуть отодвинувшись от Омара, она откинула свою красивую головку на подушку.
— Не обижайся. Ведь то не мой язык говорит, а сердце. Ведь я переполнен тобой, Айша. Разве ты не чувствуешь? А ведь любовь — это прежде всего искренность..
Она молчала. Звезды, влекомые страстью, загадочно мерцали на небе, подавая неведомые знаки всем влюбленным Земли.
— Научи меня слагать стихи. И тогда я словами, отлитыми из женских слез, скажу, что ты слеп, Омар.
— Я не поэт. Да и поэзии нельзя научиться. Истинная поэзия — это дитя нечеловеческой боли и величайшей радости. Боль — ибо весь мир проходит через тебя, через твое сердце, разрывая его на тысячи кусочков. Радость — ибо действительный поэт способен к великому сопереживанию со всем этим миром. Однажды Абу Али написал такое четверостишие:
Познало сердце и добро и зло,
Мирьяды солнц в себе оно несло.
Но к совершенству — ни на волосок!
Весь мир изведав, к цели не пришло.
А послушай эти рубаи:
Я — плач, что в смехе всех времен порой сокрыт, как роза.
Одним дыханьем воскрешен или убит, как роза.
И в середину брошен я па всех пирах, как роза.
И вновь не кровь моя ль горит на всех устах, как роза?
Тебе не кажется, что колебания сердца учителя до сих пор чувствуются в этих строках?
— Но если ты не поэт, зачем же ты пишешь рубаи?
— В человеке всегда есть что-то, помимо разума, знаний, чувств, привычек. И это «что-то» часто не может быть выражено через язык, через обычное слово. Нужна музыка. А ведь поэзия — тоже музыка. Есть какая-то магия в ритмах звуков и в ритмах поэтических слов. И разве не ощущается волшебство в этих строках Рудаки, которыми к тебе я обращаюсь, любимая Айша.
Фату на лик свой опустили в смущенье солнце и луна.
Как только с двух своих тюльпанов покров откинула она.
И с яблоком сравнить я мог бы ее атласный подбородок,
Но яблок с мускусным дыханьем не знает ни одна страна.
Прелесть смоляных вьющихся кудрей.
Она багряных роз кажется нежней,
В каждом узелке — тысяча сердец,
В каждом завитке — тысяча скорбей.
И еще — поэтическая строка делает обычное слово, мысль острее, злее, едче. Я тебе уже как-то напоминал эти строки Абу Али:
Налейте вина мне, пусть длятся года,
Налейте, чтоб радость была молода.
Вино что огонь, но земные печали
Уносит оно, как живая вода.
С ослами будь ослом — не обнажай свой лик!
Ослейшего спроси — он скажет: «Я велик!»
А если у кого ослиных нет ушей.
Тот для ословства — явный еретик!
Но есть еще одна причина, почему и иногда думаю стихами. Так мне порой удается добиться глубокого спокойствия. А ведь именно оно нужно, чтобы человек, мог вести великий разговора с самим собой. Это тот диалог, через который он узнает, что его высшее призвание, его суть — понять самого себя. И знаешь, Айша, требуется действительно большое мужество, чтобы понять, насколько это человечно — думать самостоятельно, не повторяя других…
В Бухаре Омар Хайям прожил до начала 1074 года. Столица караханидского государства, как и другие крупные города Мавераннахра, состояла из трех частей: цитадель, первоначальный собственно город (шахристан или, как называли арабы, мадина) и пригород, расположенный между первоначальным городом и новой, выстроенной в мусульманское время стеной (рабад). Цитадель с древнейших времен находилась на том же месте, что и ныне: к востоку от площади Регистан. Во времена Шамс аль-Мулька в крепость вели двое ворот: ворота Регистан (на западе) и ворота Гуриян, или «Ворота пятничной мечети» (на востоке). От одних ворот до других шла улица. На всем пространстве от ворот Регистана до прилегавшей к цитадели поляны Дештек, покрытой камышом, рыли дворцы, гостиницы, сады и бассейны.