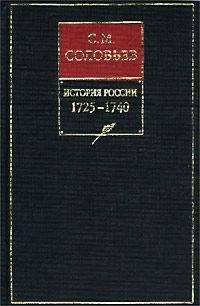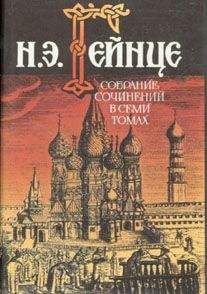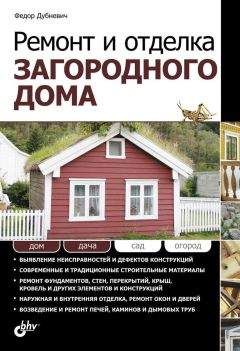Николай Гейнце - Генералиссимус Суворов
— Еще раз поздравляю тебя. Ступай с богом.
Суворов вышел.
Сделавшись капралом, Александр Васильевич был очень взыскателен с солдатами. Вне службы он обходился с ними по-братски, но на службе был неумолим.
— Дружба — дружбой, а служба — службой, — говорил он.
Несколько времени спустя, Александр Васильевич снова случайно встретил императрицу.
— Здравствуй, капрал, — милостиво улыбнулась ее величество.
— Здравия желаю, ваше императорское величество!
— Я слышала, Суворов, что ты не только не водишься со своими товарищами, но даже избегаешь их общества… Почему это? — спросила Елизавета Петровна.
— У меня много старых друзей, ваше величество, а даже пословица говорит: «Старый друг — лучше новых двух».
— Кто же эти старые друзья?
— Их много, ваше величество. Цезарь, Ганнибал, Вобан, Кагорт, Фолард, Моптекукули, Роллеп… всех не перечтешь.
— Это очень хорошо, — улыбнулась императрица, — наука наукой, но не надо отставать и от товарищей.
— Успею еще, ваше величество. У них мне теперь нечему научиться, а время дорого.
— Загадочная натура, — сказала Елизавета Петровна, обращаясь к сопровождавшей ее статс-даме.
Та наклонила голову в знак полного согласия.
— Старайся дослужить скорее до офицерского чипа. Ты, я вижу, будешь прекрасным офицером.
— Рад стараться, ваше императорское величество, — отвечал Суворов.
Императрица прошла далее.
Случая побывать в Петербурге для Суворова, сделанного капралом, уже совершенно не предвиделось, а между тем образ Глаши все чаще и чаще восставал в его воображении. Нередко среди занятий мысль о ней появлялась против его воли в голове, и он старался, так или иначе, объяснить ее загадочное поведение относительно его.
Прошло более месяца. Была половина августа. Однажды Суворов вышел из палатки и остановился вне себя от удивления.
Перед ним стояла Глаша.
XVIII. В роще
Глаша стояла перед Александром Васильевичем бледная, исхудавшая. Она до того изменилась, что Суворов с трудом узнал ее, или, вернее, ему показалось, что перед ним стоит тень Глаши — привидение.
Он отступил шага на два назад. Глаша действительно была неузнаваема. Из сравнительно полной, здоровой девушки она сделалась буквально обтянутым кожей скелетом. Ее лицо приобрело какую-то мертвенную восковую прозрачность, и лишь синие глаза сделались еще больше, как бы выкатились из орбит и приобрели какое-то светлое, страдальческое выражение.
— Глаша… ты? — наконец, оправившись от первого впечатления встречи, мог произнести Александр Васильевич.
— Я… А что… не узнали? — горько улыбнулась девушка.
— Не узнал, действительно, не узнал… Что с тобой?.. Отчего ты такая сделалась?
— Не место здесь, барин, голубчик, рассказывать… Вишь все солдаты шныряют… Нет ли где схорониться… Затем и пришла сюда, чтобы всю душу перед смертью выложить…
— Пойдем… — сказал Суворов.
Они пошли рядом по лагерю к выходу на дорогу, ведущую в Петергоф. Появление этой пары не ускользнуло от внимания солдат.
— Ишь, наш капрал-то какую-то кралю подцепил! — послышались замечания в группах рядовых.
— Уж и краля, худа как щепка, в чем только душа держится… — раздались возражения.
— Тихоня наш капрал, тихоня, а бабу завел.
— Может, сродственница?..
— Держи карман, сродственница… Знаем мы этих сродственниц…
Все эти разговоры шли вполголоса и не долетали до шедших по лагерю Суворова и Глаши.
Дойдя до Петергофа, они свернули в рощу и, дойдя до первой полянки, остановились. Первый, собственно, остановился Александр Васильевич.
Он видел, что его спутница тяжело дышала и, видимо, изнемогала от усталости.
— Присядем, — сказал Суворов.
Глаша скорее упала, чем села на траву. Рядом с ней поместился и Александр Васильевич. Они незаметно зашли в самое отдаленное место окружавшей петергофский сад рощи. Кругом все было тихо. Эта тишина была тишина леса, составленная из бесчисленных звуков природы. Легкий ветерок шелестил верхушки деревьев, в траве стрекотали насекомые, в чаще листвы с ветки на ветку перепархивали птички, весело чирикая, и все эти звуки сливались в один, казалось беззвучный аккорд и составляли то понятие, которое называется тишиной леса.
Александр Васильевич и Глаша некоторое время молчали.
— Что с тобой, Глаша? — нарушил молчание Суворов.
Молодая девушка сидела, опустив голову. При этом вопросе она подняла ее.
— Что со мной, батюшка, Александр Васильевич, что со мной, вы спрашиваете?.. Да то, чего я не пожелаю и злому врагу.
Она заплакала.
— Да что же? Из-за чего ты вдруг стала такою странною? Ко мне так переменилась?
— К вам переменилась? — усмехнулась Глаша.
— Да, ко мне. Бывало, мне казалось, что ты нарочно мне все навстречу попадаешься, заговаривать старалась, ко мне в комнату ходила. Затем вдруг точно тебя кто от меня откинул. Чураться стала, будто нечистого. Как раз это было перед лагерями. Из лагеря я раза два-три в Питер наведывался, тебя не видел, не хотела, значит, видеть меня. Обнял я тебя тогда в последний раз, может, обиделась, тогда прости, я это невольно, по чувству.
Молодой Суворов говорил, мешаясь и торопясь, как бы стараясь поскорее все высказать, что было у него на уме.
Глаша сидела и слушала с горькой улыбкой на побелевших губах. Она ответила не тотчас же после того, как он умолк. Казалось, она собиралась с мыслями…
— Обняли… обидели, — наконец начала она, и в ее голосе дрожали слезы. — Милый, желанный, Александр Васильевич, может, и жизнь свою отдать готова, чтобы вы обняли меня да расцеловали, только поняла я вдруг тогда, что не след вам до меня дотрагиваться… что я нестоящая, пропащая.
Глаша замолчала. Слезы градом катились из ее глаз.
— Что старое вспоминать… Теперь ведь ты другая, — заметил растроганный Суворов.
— Старое, — сквозь слезы заговорила Глаша. — Это старое все будет новое. От этого старого не отделаешься, с ним ив могилу пойдешь. Пятно несмываемое… За что, за что я погубила себя?..
Она снова горько зарыдала.
— Полно, полно, Глаша, уж и погубила, — подвинулся к ней ближе Александр Васильевич.
— Я ведь тоже не простая, — всхлипывая, продолжала молодая девушка, — папенька мой дьяконом был. Я, может, могла бы за благородного замуж выйти. Ведь могла бы?
Она остановилась и вопросительно посмотрела на него полными слез глазами.
— Конечно, могла, отчего же бы не могла, — отвечал Суворов, чтобы не раздражать ее противоречием.
Так, по крайней мере, думал он, но оказалось противное.
— Вот видите, вот видите, — заволновалась она. — А я себя погубила, ни за что погубила… Сгинула… Пропащая стала, пропащая.
— Но почему у тебя появились такие мысли? Кажется, была ты весела. Пела, бывало, как птичка.
— А помните вы мне книжек дали?
— Помню. Как же. Ты в последний раз у меня их забыла, так за ними не пришла. А я, признаться, ждал, — пробовал пошутить Суворов, но шутка его как-то оборвалась.
— Ждали. Не стоила я, чтобы вы меня ждали. Прочла я их, эти книжки, потому и не пришла.
— Это я в толк не возьму. Что же в этих книжках написано?
— Ах, как там хорошо написано про любовь. Когда девушка всю душу готова положить за своего милого. Когда один взгляд его ласковый заставляет ее сердце биться в сладкой истоме, когда она в объятиях его трепещет, как птичка в клетке, и жутко-то ей, и приятно. Какое это наслаждение — отдаться впервые любимому человеку. Но она, та, о которой там написано, была честная, чистая душа. И как она любила его… как любила.
Лицо Глаши, когда она говорила эту длинную тираду, оживилось, глаза заблестели, на щеках появился румянец. Она была положительной красавицей. Молодой Суворов невольно залюбовался на нее и слушал, затаив дыхание.
Этих немногих слов, этой бессвязной передачи романа, при страстности и убежденности речи, было достаточно, чтобы Александр Васильевич понял, что он был не прав, думая, как говорил он когда-то Глаше, что любовь — баловство.
— Ну, а что же он? — спросил он, заинтересовавшись рассказом.
— Он? Он тоже очень любил ее и не мог устоять. Они слюбились, но потом повенчались и были счастливы.
— Это хорошо, это бывает в жизни.
— Бывает, бывает, есть такие счастливицы.
Наступило молчание.
— Но я не пойму все-таки одного, — начал, после некоторой паузы, Суворов. — Почему же этот рассказ тебя так расстроил?
— Не понимаете, — вздохнула Глаша. — Вы и правы. Разве я имею право любить!
— Я это не говорю… Кто же может отнять у тебя это право?
— Конечно, но кто же меня полюбит… такую. Оно, может статься, пожалуй, и полюбят, на часок, на другой, за красоту, за статность, за тело мое. Об этом я и раздумалась… И стало мне противно это мое тело. Стала изводить я его постом и молитвою и всем, чем могла. Вот и дошла. Какова? Красива стала?