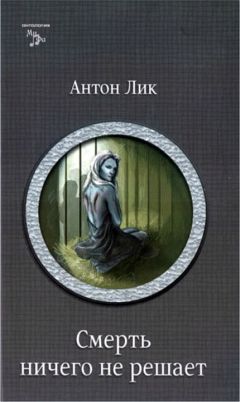Аркадий Савеличев - Столыпин
Таковы-то тени еще живых людей бродили в польско-литовском крае. Чем не жизнь?! Русские баре частенько до конца дней своих по заграницам шатались, а тут хоть и закраек, но все же своей, Российской империи. Предводитель ковенского дворянства тоже был в отца-генерала: серьезный и солидный с виду, а в душе пересмешник.
Да почему и не посмеяться, если жизнь так прекрасно складывается? При рождении очередной дочери он мог послать в Кремль и такую телеграмму – благо, что телеграф появился: «Дражайший родитель, поздравь нас с Ольгой – прекрасный урожай и на этот год удался!»
А годков-то уже – целый пяток набирался…
По восточному календарю значились тигры, драконы и прочая ужасть, а у них – только радостный писк…
…Мария, она же матя…
…Наташа (с любовью дедуле прописано: растеряша!)…
…Елена-Милена, само собой…
…еще одна Оля (О-ля-ля!)…
…Александра, в просторечии Арабский…
Не забыть бы кого?
Ага, сынка…
– Олюшка? – это уже жене. – Для полного счастия нужно еще сынулю…
– Отстань! Как там в песне – «Ты уж стар, ты уж сед…»
– Давай-давай продолжай: «Ей с тобой не житье, на заре юных лет ты погубишь ее!»
– Так видишь же – «по-гу-бишь!»
– А другого смысла не заметила: «На заре юных лет!» На заре, Олюшка. Еще только на зореньке.
Ну как можно было при такой счастливой жизни думать о каких-то должностях? О званиях?..Надо же: всё само собой приходило!
По случаю коронации Николая II – внезапное и вроде бы не по чину приглашение на торжества в Москву. Явно отец расстарался. Как такое событие могло произойти без коменданта Кремля? Разумеется, тут было не до шуток. Чин коронации веками отшлифовывался, и генерал Столыпин не мог его ни отменить, ни изменить, ни порушить. Он выглядел молодцом, родитель-генерал. Жаль, мать уже не видела, как он саблей салютовал еще не коронованному императору, а император отдавал честь ему, коменданту Кремля, и жал руку, затянутую в белейшую перчатку.
Сыну коменданта император руку не жал, но как-то само собой вышло, что придворное звание камер-юнкера сменилось на звание камергера. А чтоб на торжествах, среди лощеной царской свиты, сын не выглядел белой вороной, накануне выпал ему на грудь и орден Святой Анны. Ну как же – отец-то при всех орденах!
Петр Аркадьевич Столыпин все это, внешнее, всерьез не принимал. В душе он оставался большим пересмешником. И ничего удивительного, если бы предложил императору, по примеру отца, поменяться шляпами… хотя император-то был, конечно, в военном картузе и мог снимать его только тогда, когда вздевали корону.
Нет, цари, государи, императоры, даже какие-нибудь западные короли, – «шляпопо» свое ни с кем не обменяют!
Сидя в библиотеке Колноберже или зимней порой в дворянском собрании древнего города Ковно, новоиспеченный камергер не прочь был и посмеяться над московскими причудами. Это ничуть не умаляло его родовой мысли: «Я есмь русич!»С этой мыслью и комендант Кремля Аркадий Дмитриевич Столыпин прожил еще четыре года после достопамятной коронации, но перешагнуть в двадцатый век не смог…
Видя его бренные дни, Петр Аркадьевич в августе срочно приехал в Москву, а в ноябре уже и на похороны.
Уходил год 1899-й от Рождества Христова.Часть третья Губернские страсти
I
В высочайшем указе 30 мая 1902 года император Николай II повелел:
«Ковенскому Губернскому предводителю Дворянства, Двора нашего в звании камергера, Статскому Советнику Столыпину Всемилостивейше повелеваем быть Исправляющим должность Гродненского Губернатора, с оставлением в придворном звании».
Едва ли Николай II помнил в лицо сына почившего в Бозе коменданта Кремля; мало ли в его громадной свите во время коронации мелькало молодых и старых, бритых и бородатых, усатых и безусых, умных и глупых лиц. Голову в сие время следует держать высоко, чтобы замечать где-то там, внизу, своих подданных. Право, и при невысоком росте новоявленного царя все движущееся у его ног казалось слишком мелким, недостойным внимания. Если и отягощало что мысль, так одно: «Не споткнуться б да не грохнуться на виду у всех…» Плохая примета, истинно плохая.
Телеграмма, разумеется, пришла не за подписью «Хозяина земли русской», как значилось в соответствующей графе при переписи населения. Довольно и министра внутренних дел.
Но даже и при такой важности государевых дел самого камергера не сразу сыскали. У него были дела поважнее – семейные, личные…
Тяжело заболела старшая дочь, Мария – Матя, которая к тому времени была уже, собственно, на выданье – семнадцатый годик. Вернее, заболела-то она еще зимой, а еще вернее – и раньше признаки болезни замечались: и в прошлом, и в позапрошлом году ездили в Кенигсберг и Берлин – советоваться с медицинскими светилами. Из Колноберже было ближе до Берлина, чем до Петербурга, а Кенигсберг уж совсем рядом. Но что-то приключилось особое, раз так занервничала Ольга? Нельзя нервировать жену; она еще не сдержала свое обещание – к пяти дочкам подарить и сынка в придачу. Так что на этот раз собрались всей семьей, прихватив даже пятилетнюю Ару. Куча дочек, да сами супруги, да сопровождающие служки и нянюшки – ого какая русская помещичья кавалькада собралась! Может, болезнь Мати явилась всего лишь в воображении матери; может, «переходный возраст», как стали именовать хворобы созревающих девочек, но все равно: у предводителя ковенского дворянства была уйма свободного времени, а майский вояж в чужие земли и сам по себе был целителен. Значит, в путь!
На Берлин из северных столиц уже с 1871 года пылили через Минск и Варшаву – но там, говорили, шпалы были несмоленые, приморская дорога на запад раньше прошла. Кенигсберг лежал на задворках другого литовского поместья камергера. И в обычной жизни он ездил туда через прусские земли – как указывали железные рельсы. Вот и сейчас, в середине мая, чуть ли не целым вагоном пустились мимо своего второго поместья на Кенигсберг и далее на Берлин, желая провести лето там, где все порядочные люди проводили его – в Бад-Эльстере. На водах. Как искать жениха для подраставшей невесты, если она не попила живительной баденской водицы?
Впрочем, отцу, тем более матери, было не до шуток. Нервное расстройство – еще какое-то, о котором мать деликатно умалчивала – требовало к дочке особого внимания. Петр Аркадьевич вполне подчинился жене; это не на дворянских беспардонных собраниях – здесь если не черными шарами, так черными, то бишь грязными, тарелками забросают. Дело ясное. Слава богу, женаты уже восемнадцать лет, еще со студенческих времен, как не знать привычки жены?! Грозен муж вполне доверял милой Олюшке… и вполне ее побаивался, как все грозные мужья. Лишних вопросов не задавал, исправно исполнял все, что положено: собирал деньги на дальние и многолюдные разъезды, доставал самые удобные вагоны, давал самые исчерпывающие распоряжения слугам и служанкам, остававшимся без господ. Поместьем в Колноберже исправно правил Микола, давно ставший Николаем Юрьевичем, – управляющий, каких, может, и у царя не было. Но второе имение, примыкавшее к самым прусским землям и дававшее, собственно, основной доход, требовало глаза да глаза. А такого умного и верного Миколы, как в Колноберже, там не было. Так что во время стоянки на своей западной станции собравшимся слугам пришлось сделать довольно сердитое внушение, а по дороге на Берлин кое-кого из бездельников и обратно отправить. В этих краях еще с детства камергер распрекрасно знал местные порядки и вполне доверял немецкой порядочности. Были бы денежки, чтоб за порядочность платить.
Так что вояжируя на Бад-Эльстер, Петр Аркадьевич в часы уединения мог успокоить Олюшку:
– Ну, право? У всех невест так. У тебя, душа моя, разве не бывало?..
– Отстань. У меня давно уж отбыло…
– Ой ли, Олюшка? А как же сыночек?.. Вот отдохнем на водах – да и займемся законным строительством…
– Петенька? Дурачина ты! Да разве можно так под бока?.. Чего доброго, и вагон перекувырнешь!
– Да кого ж мне кувыркать? Не Алесю же…
– Во-во. Все вы, мужики, до гувернанток охочие…
– Ну-у, Олюшка! Алеся-то, чай, служанка всего лишь?
– Все ты знаешь, одна я не…
В самом деле, самое верное средство закрыть рот – дорожным, шатким поцелуем. Хоть купе для родителей и отдельное, но не слишком ли расшумелись?..
Верно, кто-то скребется в дверь. Ольга подхватилась, набрасывая халат.
– Ну что, Алеся?
– Матя еньчит. Говорит, жальба…
Вот уже сколько лет живет эта подросшая белорусская сирота, а от своего наречия не отвыкнет. Ольга побежала мимо череды других купе в дальний угол. Ближе к родителям располагались со всеми нянюшками младшенькие, – а отец разросшегося семейства вдруг совсем иным озаботился: «А не оженить ли Алеську… да хоть на Миколке?.. А то ведь тоже, подобно Мате, взбесишься. У самого дурака кровь дурная не взыграла бы…» Пока Алеся пропускала барыню вперед, он успел-таки пришлепнуть ее по сытому задку. Так, легонько, чтоб Ольга не услыхала. А вдруг как посильнее захочется? Думки о сыне таким делам ничуть не мешают. Служанка обернулась такими глазищами, что он, когда все женские шаги затихли, уже не шутя одернул себя: «Ой-ей-ей…»