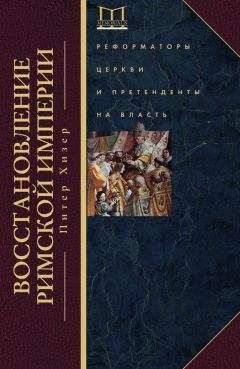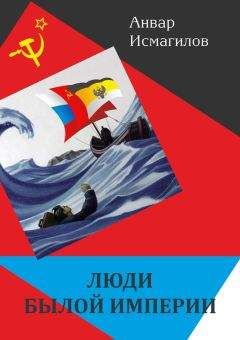Теофиль Готье - Роман Мумии. Жрица Изиды
И он бродил по широким дворам, по аллеям гигантских колонн, проходил под безмерно высокими пилонами мимо обелисков, летящих к небу, и колоссов, которые смотрели на него своими изумленными глазами, через высокую залу ипостиля и терялся в гранитном лесу ста шестидесяти двух колонн, высоких и мощных, как башни. Изображения богов, царей и символических существ, казалось, устремляли со стен на него взгляд своих глаз, начертанных в профиль черными чертами, урэусы извивались, надувая зоб, божества с головами ибисов вытягивали шею, от дисков на карнизах отделялись их каменные крылья и трепетали. Как будто необычайная жизнь оживляла эти странные изображения, наполняя прозрачной жизненностью уединение громадной залы, занимающей пространство целого дворца, божества, предки, фантастические существа среди своей вечной неподвижности были изумлены, видя, что Фараон, обычно спокойный, подобно им, ходит взад и вперед, как будто его члены из плоти и крови, а не из порфира и базальта.
Утомленный блужданием по этому чудовищному лесу колонн, поддерживающих гранитное небо, подобный льву, который ищет след своей добычи на подвижном песке пустыни, Фараон взошел на одну из террас дворца, лег на низком ложе и велел позвать Тимофта.
Появился Тимофт и с нижней ступени лестницы поднялся к Фараону, простираясь на каждом шагу. Он страшился гнева повелителя, на милость которого он одно время надеялся. Ловкость, с которой он отыскал жилище Тахосер, извинит ли ту преступную вину, что он потерял следы прекрасной девы?
Подняв одно колено и склонив другое, Тимофт простер к царю руки с мольбой:
— О царь! не умерщвляй меня и не приказывай бить меня безмерно; прекрасная Тахосер, дочь Петамунофа, на которую твой взор благоволил опуститься, как ястреб на голубицу, отыщется без сомнения, и когда, вернувшись в свой дом, она увидит твои великолепные дары, то ее сердце будет тронуто и она по своей воле придет, чтобы среди женщин твоего гинекея занять то место, которое ты ей укажешь.
— Допрашивал ли ты ее служанок и ее рабов? — сказал Фараон. — Палка развязывает языки, самые непокорные, и муки заставляют сказать то, что хотели бы скрыть.
— Нофрэ и Сухем, ее любимая служанка и старейший из ее слуг, заметили, что засовы садовой двери были отодвинуты и, вероятно, их госпожа скрылась через этот ход. Дверь выходит на реку, а вода не хранит на себе следы лодок.
— Что сказали лодочники на Ниле?
— Они ничего не видели; один из них сказал, что бедно одетая женщина перебралась на другой берег на рассвете. Но то не могла быть прекрасная и богатая Тахосер, которую ты сам видел и которая ходит в драгоценных одеждах, как царица.
Рассуждения Тимофта, по-видимому, не убедили Фараона; он оперся подбородком на руку и размышлял некоторое время. Тимофт ждал молча, опасаясь какого-нибудь проявления ярости. Губы царя шевелились, как будто он говорил с самим с собой: „Эта смиренная одежда скрыла ее… Да, это так… Переодетая, она перебралась на другой берег реки… Тимофт глупец, без всякой проницательности. Я готов бросить его крокодилам или велеть осыпать ударами… Но зачем? Высокого рода девушка, дочь великого жреца, исчезла тайком из своего дворца, не сказав никому о своем намерении!.. Быть может, любовь скрыта в глубине этой тайны…”
При этой мысли лицо Фараона покраснело, как над отблеском пожара; вся кровь поднялась от сердца к лицу; краснота сменилась бледностью, брови изогнулись, как змеи диадемы, рот судорожно сжался, зубы заскрежетали, и его вид стал так ужасен, что Тимофт в страхе упал лицом на плиты, как падает мертвый.
Но Фараон успокоился; его лицо снова приняло выражение величественное, ясное и утомленное, и видя, что Тимофт не поднимается, он презрительно толкнул его ногой.
Тимофт уже видел себя мертвым, простертым на погребальном ложе с ножками наподобие ног шакала в квартале Мемнониа с разрезанным животом и без внутренностей, приготовленным к принятию ванны из раствора соли; он приподнялся, не смея поднять глаза к повелителю, и остался на коленях в мучительной тревоге.
— Слушай, Тимофт, — сказал царь, — встань, беги, пошли людей во все стороны, обыщи храмы, дворцы, дома, виллы, сады, даже самые скромные хижины и отыщи Тахосер. Пошли колесницы на все дороги, лодки по всем направлениям по Нилу; иди сам и спрашивай встречных, не видели ли они женщину, подобную описанной тебе; нарушь покой могил, если она скрылась в приюте смерти, в глубине какого-нибудь подземелья; ищи ее, как Изида искала своего супруга, растерзанного Тифоном, и приведи ее, живую или мертвую, или же, клянусь змеем моего венца и цветком лотоса моего скипетра, ты погибнешь в ужасных мучениях.
Тимофт кинулся с быстротой ибиса, чтоб исполнить веление Фараона, который с ясным снова взором принял позу величавого спокойствия, какую ваятели придают колоссам, сидящим у врат храмов и дворцов, и спокойно, как подобает тому, чьи сандалии, разукрашенные изображениями связанных за локти пленников, попирают народы, стал ждать.
Глухой гром прозвучал вокруг дворца, и, если б небо не было ясно, как лазурь, можно было бы подумать, что начинается гроза: то был шум колесниц, пущенных вскачь во все стороны: их вращающиеся, как вихрь, колеса гремели на земле.
Скоро Фараон с высоты своей террасы мог увидеть, как лодки рассекают воды реки под усилиями гребцов и посланцы стремятся по другому берегу реки.
Цепь Ливийских гор, розоватых с сапфировыми тенями, замыкала горизонт, как фон гигантских сооружений Рамзесов, Аменофа и Менефты; пилоны с расширяющимися книзу углами, стены с широкими карнизами, колоссы с опущенными на колени руками обрисовывались, позлащенные солнечным лучом, и даль расстояния не умаляла их величия. Но не на гордые сооружения смотрел Фараон. Среди кущ пальмовых деревьев и обработанных полей виднелись местами расписанные дома и киоски, как цветные пятна на живой залежи растительности. Под одной из этих крыш, под одной из этих террас скрывалась, без сомнения, Тахосер, и он хотел бы волшебством поднять их или сделать прозрачными.
Часы шли за часами; солнце уже исчезло за горами, бросая последние огни на Фивы, а посланцы не возвращались. Фараон оставался в той же неподвижности. Ночь простерлась над городом, спокойная, свежая, голубая; звезды начали мерцать, и их длинные золотые ресницы дрожали в глубокой лазури; а на краю террасы черный силуэт безмолвного бесстрастного Фараона вырезался подобно базальтовому изваянию на пьедестале. Много раз ночные птицы летали над его головой, чтобы сесть на нее, но, испуганные его медленным и глубоким дыханием, улетали с биением крыльев.
На высоте царь господствовал над своим городом, раскинувшимся у его ног. Из недр голубоватого сумрака поднимались обелиски с острыми вершинами, пилоны, гигантские ворота, пронизанные лучами, высокие карнизы, колоссы, восстающие до плеч из хаоса сооружений, портики, колонны с капителями, подобными гигантским распускающимся гранитным цветам, углы храмов и дворцов, окаймленные серебряным светом; священные бассейны сверкали как полированный металл; сфинксы и криосфинксы рядами вытягивали перед собой лапы, и крыши домов шли одни за другими без конца, белея в лунном свете массами, пересеченными глубокими площадями и улицами; красные точки вырезались на голубой тьме, как будто звезды уронили на землю искры: огни ламп еще бодрствовали в уснувшем городе. Дальше между домов, менее стесненных, смутные вершины пальм колебались, как опахала из листьев; в глубокой дали очертания и формы терялись в туманной необъятности, и даже глаз орла не мог бы уловить пределы Фив, а по другую сторону старый Хопи-Му величественно спускался к морю.
Царствуя взором и мыслью над этим беспредельным городом, его неограниченный повелитель, Фараон, с грустью думал о пределах человеческой власти, и его желание, подобно голодному коршуну, терзало его сердце. Он думал:
„Во всех домах живут люди, которых один вид мой склоняет во прах и для которых моя воля есть повеление богов. Когда я проезжаю в моей золотой колеснице или меня в носилках несут оэрисы, грудь дев трепещет и они провожают меня долгим робким взглядом; жрецы кадят передо мной благовониями амширов; народ машет пальмовыми листьями или бросает на моем пути цветы; свист моей стрелы повергает в содрогание народы, и стен пилонов, громадных, как скалы, едва достаточно, чтоб написать на них мои победы; каменоломни опустошаются для того, чтоб высечь из гранита мои изваяния. И вот в моей высшей пресыщенности я возымел одно лишь желание, и это желание я не могу исполнить! Тимофт не возвращается; он, без сомнения, не нашел. О, Тахосер, Тахосер! Сколько счастья ты должна мне дать за это ожидание.
А между тем посланцы с Тимофтом во главе обходили дома, проходили по дорогам, расспрашивали о дочери жреца, описывая ее встречным путникам. Но никто не мог ничего им сказать.