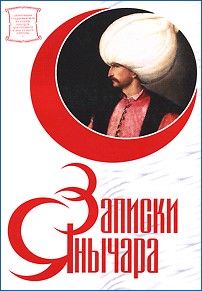Иван Наживин - Иудей
Против него возлежал и думал почти те же думы другой иудей, внук знаменитого Филона Тиверий Александр, который принял язычество и так уверенно шёл лестницей почестей, что, к великой досаде римлян старого закала, уже имел на форуме статую. Уже пожилой, но красивый, с благородной, думной головой и холодными, слегка презрительными глазами, он тяготился вечным праздником Рима. Он любил дело, движение, ловкий ход в жизни… хотя бы это даже ни к чему и не вело. И на блестящее общество пира он смотрел почти что как на стадо свиней…
Около него пристроился только что прибывший из Иерусалима молоденький фарисей Иосиф бен-Матафия, розовенький, чистенький, с любопытными глазками. Иерусалимская арена казалась молодому фарисею узка для него, и вот он выбрался на разведку сюда, в столицу мира. Он был ошеломлён пышностью Рима и его безудержной жизнью. Через актёра Алитура он был представлен Поппее — она склонялась к иудейству, — а через неё пробрался уже ко двору. Голова его закружилась. Он понял, что в жизни все позволено и что понимание этого — первый шаг. А так как более всего в жизни молодой фарисей любил себя, то он понял, что для него важнее всего быть непосредственно в лучах солнца мира, цезаря, а не в душном от бесплодных споров Иерусалиме… И он живыми глазками смотрел вокруг, все замечал, все подслушивал, и хотя в светских манерах часто давал промахи, но быстро приспособлялся к окружающему. То, что он возлежит за одним столом с такими людьми, как Иоахим и Тиверий Александр, наполняло его чрезвычайным уважением к самому себе…
В жарком рдении громадных зал, в тяжёлом аромате курящегося янтаря, в мелькании стройных, почти обнажённых тел танцовщиц, под страстные всплески незримой музыки вдруг поднялся красивый голос Аннея Серенуса:
Heu, heu! nos miseros! quam totus homuncio nil est!
Quam fragilis tenero stamine vita cadit!
Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus.
Ergo vivamus, dum licet esse bene!..[23]
Он был совсем пьян. Нерон — он рассолодел совсем — издали сделал знак, что он рукоплещет Аннею, и, подняв правую руку, — на соседних столах сразу все стихло — напыщенно прочитал:
О, Одисей, утешения в смерти мне дать не надейся:
Лучше б хотел я живой, как подёнщик, работая в поле,
Службой у пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мёртвыми царствовать мёртвый…
Ближние столы разразились бурными рукоплесканиями, а за ними и все, хотя десятая доля пирующих не знали, кому и чему рукоплещут. И Нерон, высоко подняв чашу с крепким, останавливающим тошноту цекубом, воскликнул:
— И потому — carpe diem![24]
— Божественно! — с насмешкой уронила Агриппина.
— Несравненно! — стрельнула горячим взглядом по владыке вселенной раскрасневшаяся, но не теряющая самообладания Береника. — Тебе необходимо выступить на играх в Ахайе…
— Я уже думал об этом, — гордо отвечал Нерон. — Но надо ещё усовершенствоваться. Я люблю все доводить до последней степени совершенства…
И он с усилием сдержал раздирающий его зевок… Анней хотел сказать что-то Актэ, но она исчезла. Молодому воину стало горько. Вздор все: и беспрерывные и осточертевшие своим свинством пиры, и эта его будто бы любовь к прекрасной гречанке, и все эти будто бы поэтические цитаты из будто бы значительных писателей и поэтов, — все обман! И мрачно повесил он свою красивую голову…
Актэ ускользнула незаметно в свои покои, находившиеся в самой отдалённой части дворца. Её встретила улыбкой молоденькая невольница Эпихарида. Она была больше сестрой Актэ, чем её рабыней: обе были в неволе, обе были сердцем мягки, обеим жизнь не улыбалась. И, когда изредка цезарь навещал свою подругу, Актэ прятала Эпихариду от близоруких голубых глаз владыки.
— Ну, что, спать? — ласково спросила Эпихарида.
— Спать, спать, спать… — устало отвечала Актэ. — Нет, я решительно предпочла бы работать в поле или на виноградниках… Ах, как все это опротивело!..
Эпихарида откинула тяжёлую завесу окна: над огромным городом занималась уже заря. Рабы очищали дворцовые залы от пьяных. Цезарь — его увели под руки, — как был в аметистовой, залитой вином и всякими соусами тоге своей, так и ткнулся носом в постель и тяжело захрапел. Он не успел пёрышком очистить желудок, и сон его был мучителен. Ему снилось, этот сон повторялся уже не раз и внушал ему поэтому особенный ужас — что зад его любимого иноходца превратился в обезьяну и что от лошади осталась только голова, которая звонко ржала… И Нерон дрожал всем своим воняющим телом и мучительно стонал…
XV. НОЧНЫЕ ТЕНИ
Наутро над только что проснувшимся городом тёмным вихрем вдруг пронеслась страшная весть: префект города Педаний Секунд при возвращении с пира у цезаря был убит одним из своих рабов. Верхи ещё спали, а низы зашумели недобрым шумом: чернь в Риме всегда была готова к возмущению — нужен был только повод. Постепенно тревога овладела было и всем городом, но всех рассмешило и успокоило остренькое словечко Петрония.
— Какие опасные настроения? Какие страшные идеи? — насмешливо поднял он брови. — Идеи живут в головах — отрубить головы, и не будет никаких идей. Все эти благодетели, которые баламутят народ, прежде всего ослы. Миром правит глупость, но величайшие из глупцов как раз те, которые хотят эту глупость победить, по способу ли Сенеки, по способу ли Спартака, все равно…
— Но… а как же божественный цезарь? — посмотрел на него смеющимися глазами Серенус.
Петроний посмотрел ему в глаза и спокойно проговорил:
— А что скажешь ты о «Щите Минервы»? По-моему, слишком уж жирно: у меня всю ночь в желудке точно кол стоял. Нет, искусство есть у нас решительно вырождается — как и все, впрочем. Ты что, к Бурру? Он уже расставляет центурии[25] и турмы[26] по городу. Но вы преувеличиваете. Никакой опасности нет…
Но это была только обычная бравада: Петроний был достаточно опытным администратором, чтобы понимать, что опасность есть, и не малая. Дело в том, что римский закон гласил вполне определённо: «Когда господина убивают, то рабы должны подать ему помощь и оружием, и рукою, и криком, и закрывая его собственным телом. Если они, быв в состоянии, этого не сделали, то их по справедливости следует казнить». В то время всякий порядочный человек должен был иметь для личных услуг не менее десяти рабов. Так как Педаний был, несомненно, очень порядочный человек, а кроме того и префект города, то для личных услуг у него было четыреста рабов. И вот все они, с детьми и стариками, и должны были теперь идти на казнь… Весь огромный мир рабов и черни взволновался: невозможно допустить такой бессмысленной жестокости! Анней на совместном с Бурром утреннем докладе известил об этом Нерона, который после ночных кошмаров находился в самом зверском настроении.
— Что? — сразу грозно налился он кровью. — Чтобы никаких волнений не было и конец! Закон требует казни всех, и все будут казнены. Преторианцы готовы?
— Готовы, божественный, — отвечал дряхлый Бурр. — Важнейшие части города уже заняты турмами…
— И прекрасно,.. А если кто посмеет поднять голову, то всю эту сволочь истребить без пощады… Петроний прав: идеи живут в головах — значит, рубите головы. Только и всего. И вы оба отвечаете мне за спокойствие в городе… Ты понял, Анней?
— Понял, — спокойно отвечал Анней и поморщился: после попойки от цезаря, несмотря на все его притирания, несло острой и противной вонью.
— Ну, идите и действуйте. А вечером доложите, как и что. Но не забывайте лозунга: никакой пощады! Только этот язык они и понимают…
По римскому праву — величайшее из бедствий, которыми отравил тот умирающий мир человечество на долгие века, — раб был вещью. Раб не имел никаких прав. Его можно было заложить, подарить, обругать на улице зря, ударить, бросить на съедение рыбам или зверям. Жилища для рабов немногим отличались от хлева. В них рабы запирались на ночь скованными. Обычная казнь для рабов была распятие. Праздников для рабов не было. Волам давался раз в неделю отдых, а рабам справедливый Катон назначает работы и в праздники, такие, которые не требуют участия отдыхающего скота: они могут чистить сады, полоть луга, копать канавы, проводить дороги и прочее. Волов религия охраняла, рабов — нет. Как редкое исключение, среди рабов встречались очень образованные люди, которые со своими господами находились в прекрасных отношениях.
Целый день перед домом убитого префекта города стояли толпы народа.
— Говорят, что, пьяный, он ударил раба за то, что тот не сразу открыл ему дверь, — проговорил кто-то сумрачно.
— Болтай больше!.. Раб приревновал его к одной девушке…
— Ан к мальчику?..
— Может, и к мальчику… А вот теперь четыреста человек пойдут на казнь ни за что…
— Придёт и наш день! — угрюмо бросил какой-то исхудалый, кожа да кости, сутулый, но огромный раб в оборванной одежде. — Забыли Спартака-то?.. Так напомнить можно…