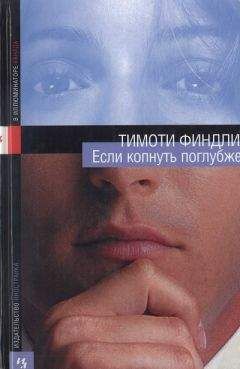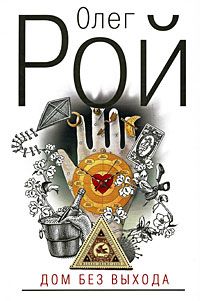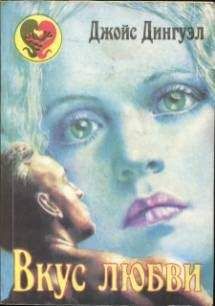Тимоти Финдли - Пилигрим
От костров, у которых снова съежились человеческие фигуры, отползают собаки: уши прильнули к голове, хвосты зажаты между задних лап. Они приближаются к тряпью, обнюхивают его и поворачивают назад.
Все, кроме одной. Она ложится на землю, кладет голову на лапы и безмолвно скорбит».
Юнг оторвался от чтения.
На его глазах убили незнакомку — незнакомку из другого времени, такого далекого, что он недоумевал, как мог Пилигрим столь живо описать это в своем дневнике.
Дневник. Ежедневные записи… То, что Юнг прочел, было написало в настоящем времени, как будто…
Как будто Пилигрим сам там был. Но разве такое возможно?
Совершенно невозможно.
Почерк был такой неразборчивый, а глаза у Юнга так устали, что, казалось, голова вот-вот разорвется на части.
Что же он такое прочел?
Юнг полистал страницы дневника, размышляя о том, сколько еще удастся прочитать сегодня. Разве можно описать события прошлого так, словно они увидены глазами очевидца? Костры, женская одежда, пение хора мальчиков, собаки, дети… Результат мастерского исследования? Или обычный вымысел, часть будущего романа?
Юнг потер глаза, собираясь закурить сигару, и вдруг услышал, как отворяется дверь.
— Карл Густав! Уже три часа. Ложись спать.
В дверном проеме стояла Эмма. Лицо ее плыло во тьме, из которой она возникла. Голос прозвучал так неожиданно — почти замогильно, — что Юнг поспешно захлопнул дневник Пилигрима, точно жена застукала его за разглядыванием эротических японских картинок. За спиной у Юнга, за стеклянной дверцей шкафа, было заперто несколько экземпляров, которые он хранил исключительно из профессиональных соображений, Эмма — чтобы отличить нормальные позы от безумных и опасных сексуальных фантазий самых озабоченных пациентов. И я…
— Что ты читаешь?
— Ничего.
— Нельзя сидеть и читать ничего в три часа утра.
— Это просто…
— Да?
— Всего лишь…
— Что — всего лишь? — прервала его Эмма. Она пришла, чтобы уложить мужа в постель, и ей не хотелось выслушивать туманные объяснения.
Юнг погладил кожаный переплет и налил себе еще немного бренди.
— Ты что-то хотела? — спросил он, махнув жене бутылкой.
— Конечно, нет.
— Конечно, нет. Замечательно. В таком случае…
— Что?
— Не надо вмешиваться в мою работу, Эмми.
— Я никогда в нее не вмешивалась — и не собираюсь. Побойся Бога, Карл Густав! Я делаю для тебя половину исследований, я проверяю твои рукописи и правлю твои бесчисленные ошибки. И ты называешь это „вмешиваться“?
— Я делаю не так уж много ошибок.
— Ты пишешь абсолютно безграмотно! Ты представления не имеешь о пунктуации, а почерк у тебя такой отвратительный, что, кроме меня, ни единая душа на свете не смогла бы его расшифровать. Даже ты сам. Ты хоть помнишь, сколько раз приходил ко мне и спрашивал: «Скажи, пожалуйста, что я тут написал?» Если это называется «вмешиваться», Я тут же все брошу и начну учиться готовить!
— Не сердись! Я просто хотел…
— Ты просто не хочешь сказать мне, что у тебя на уме.
— Я преступил рамки закона.
Эмма вошла в кабинет и села в кресло для пациентов, напротив мужа.
— Преступил рамки закона? — переспросила она, разглаживая на коленях халат. — Каким образом? Как?
— Иногда это необходимо.
— Нарушать закон? Почему?
— Выпей немного бренди. Держи.
Юнг протянул ей бокал.
— Я беременна, Карл Густав. Мне нельзя пить, да я и не хочу.
Он налил себе еще. Эмма молча смотрела на него.
— Я жду. Ты совершил правонарушение? Тебя арестуют и посадят в тюрьму?
— Надеюсь, что нет.
— Что же ты сделал?
— Я преступил моральный закон, этический… И если об этом узнают, моя карьера будет в опасности. Не исключено, что меня подвергнут дисциплинарному наказанию, а то и вовсе дисквалифицируют.
— Перестань ходить вокруг да около, Карл Густав! Скажи мне, что ты натворил!
— Эта книга… — Юнг постучал по ней указательным пальцем, — дневник одного из пациентов.
— Ну и что?
— А то, что я читаю его без разрешения.
— Он в состоянии дать тебе разрешение?
— Нет.
— Так в чем же проблема?
Юнг просиял.
— Эмма! — воскликнул он. — Я тебя обожаю! Ты сказала именно то, что я надеялся услышать.
— Понятно. Значит, когда тебя арестуют, я буду виновата.
Эмма рассмеялась, встала и запахнула халат.
— Я пошла спать. Можешь сидеть тут сколько хочешь, только не брани меня, если утром будешь похож на сонную курицу. У тебя в девять назначена встреча.
— С кем?
— Понятия не имею. Я не твой секретарь, я всего лишь твоя жена. Спроси фройляйн Унгер. Я знаю только, что ты с кем-то встречаешься в девять.
— Постараюсь не засиживаться.
— Решай сам. Спокойной ночи.
Эмма пошла к двери и обернулась.
— Карл Густав! — сказала она. — Жена знает о муже то, чего не знает никто другой, даже он сам. Будь я женой Йозефа Фуртвенглера, я бы забеспокоилась, если бы застала его за чтением чьих-то личных записей. Но я, слава Богу, не Хейди Фуртвенглер. Я Эмма Юнг, и когда я снова залезу под одеяло, то усну, как младенец. — Она присела перед ним в шутливом реверансе. — Доброй ночи, мой дорогой. Когда-нибудь, надеюсь, ты все мне расскажешь.
— Обязательно, — пообещал Юнг. — Причем скоро, потому что тебе придется провести кое-какое исследование. Приятных снов.
Эмма ушла от него во тьму. Юнг сидел, слушая, как она поднимается по лестнице, а потом ненадолго закрыл глаза.
«Я счастливчик», — подумал он и вновь открыл дневник Пилигрима.
Листая страницы, чтобы найти место, где остановился, Юнг наткнулся взглядом на фразу, которая заставила его похолодеть. «Даже сейчас, когда я записываю свои воспоминания, эта сцена настолько живо стоит у меня перед глазами, что я сжимаю перо так, будто хочу сломать его пополам».
Воспоминания… Настолько живо стоит перед глазами…
Любопытно.
Похоже, Пилигрим писал о том, что действительно помнил.
Это не вымысел, навеянный Чтением исторических книг. Такое ощущение, что он описывал собственные переживания.
Но этого не может быть! Просто не может. Или…
Юнг взял блокнот, отодвинув дневник Пилигрима, нашел ручку и написал: «Жизнь души не требует ни пространства, ни времени. Она протекает внутри своих собственных рамок — рамок безграничности. Никакой замкнутости. Никаких требований рассудка».
«Продолжай! — велел он себе. — Читай дальше».
Вопрос о том, чей это голос, решится сам собой, если он даст ему возможность говорить свободно. Принадлежит ли он Пилигриму или кому-то еще, Юнга уже почти не волновало. Главное, что голос нес в себё явный отпечаток цельности.
Юнг выпрямил спину.
Четыре утра. Вернее, пятнадцать минут пятого.
Ему хотелось сделать паузу, поразмыслить, придумать новые вопросы, но Пилигрим оставался загадкой, которую он не сможет разгадать, если не почитает еще.
Дневник был открыт. Юнг продолжил чтение.
4«Поднимается ветер. Ветер, колышущий флаги, которые вывешены в окнах и на балконах площади Святой Марии. Алые флаги в честь папского нунция, чья миссия заткнуть Савонароле рот благополучно провалилась. Флаги, ободранные руками умирающих от холода горожан. Лохмотья, машущие нунцию вслед, словно сносимые ветром с палубы тонущего корабля матросы: «Прощай! Уезжай обратно в Рим».
Звонят все колокола всех церквей — шквалы колокольного звона. Кажется, их раскачивает сам ветер. На площади у костров сгорбились фигуры, натягивая на себя тряпье по самые уши. Понедельник, понедельник. Завтра, возвещают им колокола, последний день масленицы, день святого Матфея; обычно мы все вместе ликовали, танцевали и пели, сытые и пьяные. Теперь это «завтра» запрещено эдиктом Савонаролы».
Юнг, увидев это имя, инстинктивно закрыл глаза. Савонарола был святым и чудовищем. С точки зрения Юнга, больше чудовищем, чем святым. Фанатик, бесспорно. А фанатики всегда требуют жертв.
Юнг записал в блокноте: «Исследование для Эммы: Савонарола».
«Подхваченные порывами ветра, огненные языки взметаются ввысь на фоне стен, малюя на них рваные тени. Хор в церкви словно с испугу начинает петь громче:
… Chorus Angelorum te suscipit,
et cum Lazaro, quondam paupere
aeternam habeus requiem.
Да примет тебя хор ангелов,
И вместе с Лазарем, ранее несчастным,
Да обретешь ты вечный покой.
Неожиданно площадь по диагонали пересекает кавалькада всадников на серых скакунах. Слышен цокот копыт. Сами наездники кажутся силуэтами с разметавшимися по ветру волосами и руками, похожими на плети.
А потом появляется…»