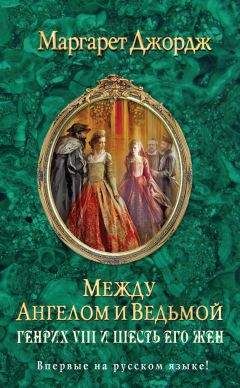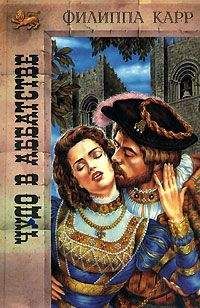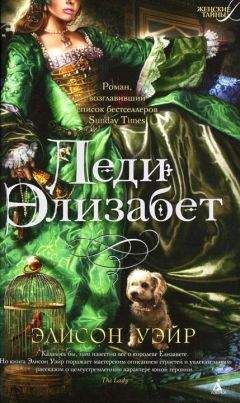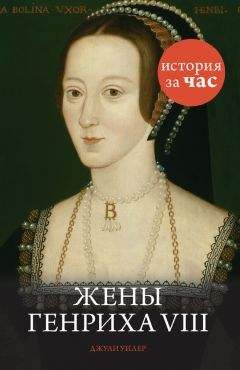Юрий Щербаков - Ушкуйники Дмитрия Донского. Спецназ Древней Руси
– Урусуты говорят: «Простота – хуже воровства»!
«Истинно! – чуть заметно усмехнувшись, подумал Мамай. – А все ж тому простецу доверять, яко Бегичу или Кастрюку, до конца нельзя. Мурзам без меня смерть, ибо достатки свои и славу получили из моих рук. А отпрыск царский как бы не взбрыкнул, норовя сбросить да и подмять оседлавшего его безродного темника. Ну да ничего, хитрому табунщику Мамаю и не таких неукротимых объезжать доводилось!»
Помолчав, Мамай заговорил резко и властно, будто и впрямь смиряя упрямого жеребца:
– Чисты помыслы твои, светлый богатур. Отдаешь ты в мою руку рукояти славных сабель своих воинов. Но ведомо тебе, что верность тех клинков постигнуть мочно лишь на вражеских шеях. Дерзостен и злословен владетель астороканского улуса Хаджи-Черкес. Готов ли ты стать громом гнева и молнией возмездия на голову этого нечестивца? Пусть обрушится меч справедливости на шелудивого пса, прикормленного твоим ненавистником Тохтамышем. Оттого и наглеет он, и зубы скалит. Выбей без жалости эти зубы!
Арапша почтительно коснулся правою рукою поочередно сердца, губ и лба:
– Ин ш, аллах!
Глаза Мамая больше не были сладко прижмурены, в них метались хищные зеленые огоньки, словно у изготовившегося к прыжку дикого кота. Да и сам он худым, наклонившимся вперед телом неуловимо напоминал дремучего обитателя камышовых зарослей. Даже яростный, гортанный голос его был схож с хриплым утробным мяуканьем облезлого владыки тугаев.
«Драный кот!» – подумал Арапша, но не сказал, покорно склонил голову, слушая.
– Но Хаджи-Черкес лишь лопоухий щенок перед матерым псом Дмитрием Московским. То другой наш заклятый враг. Осильнела Москва, покуда шли нестроения в Орде. Вельми мудр был Чанибек, не дававший Руси обрастать золотою шерстью. Давно уж никто не стриг упрямого московского барана. Потому и обнаглел он, и сам норовит боднуть хозяина. Забыл надменный коназ, чей Москва улус! Пора подмять выю гордеца под татарское колено, зажать могучей пястью дерзкое горло, дабы не изрыгало оно никогда хулы на славных степных богатуров!
Мамай вытянул руку, будто и впрямь сжимая вражью гортань, и хищный сверк камней на его пальцах схож был с тусклым блеском когтей на кошачьей лапе.
– Ведомо ли тебе, царевич, что злокозненный тот урусут посягает уже и на Орду? Великий окуп взял с Булгара, а ведь тамошний князь Магомет-Солтан из моих рук ставлен!
Мамай, захлебнувшись гневом, умолк. И, когда заговорил вновь, в голосе его было больше злобной решимости, чем безрассудного гнева.
– Дмитрий хитер! Сам полки на Булгар не повел, дабы мы на Москву сильно не опалялись. Тестю своему Дмитрию Суздальскому доверил рати. Но где конь валялся, его шерсть останется! И полк московский на Булгар ходил, и воевода Боброк, коего Дмитрий у сердца держит, был тамо. Наказать надо Москву! Только чтоб Дмитрия ныне сломить, сила всей Орды нужна. А ее не год и не два сбирать придется.
Мамай хитро прищурил глаз.
– Притворимся покуда, что поверили Москве, и взыщем за Булгарский разор с Дмитрия Суздальского. Тем паче что то не первый его грех пред Ордою. Помнишь ли ты, мурза, как извели нижегородцы посла моего, а твоего брата – Сарайку?
Великий темник повернул голову к тучному Кастрюку. Тот, мрачно посопев, отмолвил:
– Проклятые урусуты, да опрокинется на них небо, держали Сарайку с нукерами в затворе, а когда вырвались храбрецы и заняли дом главного городского шамана, сожгли их в том доме без жалости! Прикажи, непобедимый, и я кинусь, подобно бешеному медведю, на коварного коназа!
– Да будет так! – На узкое лицо Мамая вернулась прежняя маска надменного величия. – Ты, Кастрюк, пойдешь с пресветлым царевичем на Асторокань. А потом, когда отъедятся кони на весенней траве, помчитесь вы изгоном на улус Дмитрия Суздальского!
Арапша и Кастрюк почтительно склонили головы. Как и всегда, вид чужого покорства утишил гнев Мамая. Иным, уже умиротворенным голосом вопросил он Арапшу, нет ли у того просьб, жалоб, иной ли какой докуки к нему, Мамаю. Царевич, замявшись и переглянувшись со своим мурзою, ответил не враз, и видно было, как он трудно подбирает слова, силясь, видимо, опять не сказануть лишнего.
– О Щит Милосердия! Сверх меры довольны мы, недостойные, милостью твоею. Есть, правда, маленькое дельце. Стоит ли только досаждать?
– Ну-ну, – подбодрил Мамай, и Арапша, отчаявшийся облечь в цветистые речения существо дела, сказал, как отрубил:
– Свели ночью у киличея моего, мурзы Куплюка, коней. Одного‑то жеребца я ему дарил. Тоурмен! Потому и говорю.
– Воров ловили?
– Ушли.
Мамай повернулся к Кастрюку:
– Мурза! Грабителей сыскать. Немедля. Коней вернуть. А тебе, киличей, за тревогу и хлопоты твои в придачу к тоурмену дарю горячего тонконогого аравийца из моих табунов!
Мамай милостиво кивнул Куплюку.
«Хитер», – привычно подумал о своем повелителе Кастрюк. Да и особой хитрости‑то не было в том, чтобы утаить от гостей горькую истину, открытую Некоматом. Не мог же, в самом деле, владыка Орды поведать новым союзникам, что на их боевых конях умчались от расправы московские проведчики! Много чего порою не может человек, даже если он всесильный темник, и паче всего, не может прозреть он будущее.
И потому не ведают пока судьбы своей ни обруганный Вельяминовым за долгую отлучку Поновляев, ни близящиеся уже к могучим бастионам генуэзской Таны соглядатаи Дмитрия Московского, ни пятеро случайных степных бродяг, коим снесут головы за чужой грех, являя гостям строгость ордынских порядков, ни князь астороканский Хаджи-Черкес, лениво отведывающий в этот миг халву с широкого золотого блюда. Не дано знать коварному владетелю поволжского улуса, что не минет еще и зима, как тяжелое блюдо это отразит огни бухарских светильников в Мамаевом шатре. Только не рассыпчатая услада гортани будет возлежать на блистающей его поверхности, а лишенная тела голова самого Хаджи-Черкеса – кровавое доказательство преданности царевича Арапши всесильному темнику Мамаю.
Не задумывается еще о своем жребии – пробиваться зимней неприютной степью к далеким рубежам Русской земли – и новый юркий приказчик купца Вьюна, заботно перекладывающий сейчас товар в походной его лавке. Не задумывается, но уже готов поспешать, неся добытые Мишей Поновляевым вести через Дикое поле туда, где у границ рязанских ждут их дальние московские сторожи.
Бег времени неостановим, и что ему человеческие судьбы, бесчисленными пылинками ложащиеся под его копыта! Может, оно и так, только не каждую из них уносит встречный ветер, какие‑то ведь и впечатываются навеки бесстрастными подковами в неиссякаемую память поколений. Какие и когда? Не дано нам этого знания, и в этом мудрость вечного времени.
Глава 17
Дмитрий возвращался в Москву. Дорога змеисто струилась мимо вызревающих хлебов, и усатые ржаные колосья, неуловимо схожие с ощетиненными копьями воинами, были так же досыти пропылены, как и малая княжья дружина. Июльская жара расплавленной солнечной медью неостановимо текла с низкого василькового неба. Дружинники, довольные тем, что разрешили снять раскаленные брони – «чего там, не на рать, домой едем!» – тихо переговаривались за спиною князя:
– Жарынь!
– Дождичка б мокропогодничка.
– Дожжу толщиной с вожжу!
– Да хоть пыль бы прибило, и то ладно.
Матерый бас, урезонивая, покрыл молодые голоса:
– Неча бога гневить! Парко, да не жарко! А вот как оно теперя на походе‑то? Ить панцирь, ровно печка, – яйца калить мочно!
– Чьи яйца‑то, дядя Егор?
Хохот покрыл слова насмешника. Дмитрий, усмехнувшись, вернулся к прежним думам, неотвязным, будто злые конские мухи.
Все ли он устроил, как надо? Не напрасно ль ушел ныне из Нижнего? Да не о том и речь. Нельзя было не уйти! С Литвою шутки плохи. Старый Ольгерд умер, а княжение сыну Ягайле из Ульянина выводка оставил. А Ульяна не кто‑нибудь – сестрица родная Михаиле Тверскому! Что при жизни долгой своей горазд был Ольгерд загадки загадывать, что и после кончины преизлиху всех озадачил. Поди, угадай, чем замятня литовская кончится! Слышно, недовольных последней Ольгердовою волею немало‑таки сыскалось. Верный проведчик в Нижний донес, что пуще других ополчились на Ягайлу старший его брат Андрей Полоцкий да дядя Кейстут с сыном Витовтом.
Все они Москве добре знакомы. С каждым ратиться довелось! Вот и разберись тута. А разбираться‑то надо, чтоб не створилось, неровен час, по присловью: в Литве дерутся, а на Руси чубы трещат. Не проглядеть бы! Потому и возвращается ныне князь в Москву.
А все ж гнетет душу смутная догадка, что сдеял что‑то не так. А что? Тестюшку своего о новой татарской напасти известил в июне еще, едва сведав о том от нового ордынского проведчика (спасибо Горскому, что сыскал такого в Мамаевой Орде, да и не один там ныне такой доброхот делу Русскому обретается), владимирскую, переяславскую, юрьевскую, муромскую да ярославскую рати собрал, да сам с ними в Нижний и пришел. У тестя тоже полк не мал.