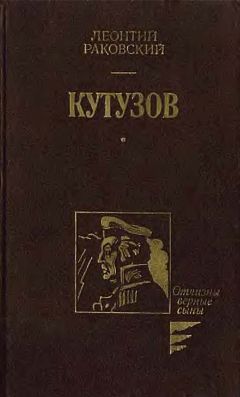Леонтий Раковский - Изумленный капитан
Масальский не уходил. Он присел на край постели и положил руку на полное плечо Софьи.
Софье лень было шевельнуться, лень было сказать: что же вы не уходите?
Кровать, каюта, все-все – плыло, кружилось волчком. Казалось, что шкоут попал в какой-то сумасшедший водоворот.
Рука Масальского медленно сползала от плеча к труди. Рука стала дрожать.
И в одно мгновение уставший, затуманенный вином мозг Софьи прорезало воспоминание: ночь в Славянке, грек. Она встрепенулась, стараясь побороть усталость и сон.
– Что надо? – заплетающимся языком спросила Софья.
– Ничего, Софьюшка, ничего. Туго стянуто. Я отпущу немного. Ничего! – бессвязно бормотал Масальский, все крепче прижимаясь к Софье.
Его руки стали вдруг настойчивыми и грубыми…
Софья закричала, рванулась из рук Масальского, напрягая последние силы, но сил было мало…
И в полутьме каюты Софья на одно короткое мгновение увидела над собой куриное личико мичмана, передернутое какой-то необычайной гримасой.
* * *Софья проснулась от жажды: нестерпимо хотелось пить. Во рту было сухо и горько.
Софья лежала, соображая: где же она?
За бортом лениво плескались волны, чуть покачивая судно.
«Еще плывем из Москвы в Астрахань» – была первая мысль. Но тут же Софья с ужасом почувствовала – на постели, бок о бок с ней, кто-то лежит.
Она повернула голову и при лунном свете, освещавшем каюту, увидела: рядом с ней, на подушке, лежало чье-то незнакомое, востроносое, мужское лицо. От него несло винным перегаром.
Мгновенно вспомнилось все.
Что-то заныло, упало в груди, похолодели руки…
Софья вскочила и, осторожно, боясь разбудить Масальского, сползла с постели.
Встала, шатаясь, как пьяная, хотя от давешнего хмеля остался только горький вкус до рту и горький осадок на душе. В изнеможении оперлась о стену. Руки упали безвольно вдоль тела. Она стояла, запрокинув голову.
– Господи, что же со мной стало?
Слезы неудержимо текли по щекам.
– Нет, бежать, бежать скорее отсюда! От этого позора! – очнулась она.
Софья дрожащими руками поспешно приводила себя в порядок. Зашнуровывая корсаж, схватилась: а где же письмо?
Асклиадино письмо исчезло.
Как ни противно было, подошла на цыпочках к кровати.
На сбитой постели лежал, разбросав ноги и руки, точно пьяный посадский под забором, востроносый мичман. Один глаз был чуть приоткрыт. Изо рта вылетали какие-то булькающие звуки.
Софья глядела на него с отвращением, с брезгливостью и, в то же время, словно не могла оторваться.
Должен был бы стать самым близким человеком, а стал непереносимым: курье – без подбородка – личико противно до тошноты!
Софья чуть сдержалась, чтобы не плюнуть в этот мерзкий, куриный лик.
Отвела взор. Глянула на пол.
У кровати валялся серо-голубой мичманский галстук. Рядом с галстуком лежало злополучное письмо келарши Асклиады.
Софья схватила его – конверт был цел, только чуть надтреснулась сургучная печать, – сунула за корсаж и, не оглядываясь, кинулась вон из каюты.
От луны на палубе было светло, как днем. Палуба походила на цыганский табор – она вся была заставлена пологами, под которыми матросы укрывались на ночь от комаров.
Со всех сторон раздавался храп – в этот час вся команда шкоута спала мертвым сном.
Софья, оглядываясь подошла к борту. Трап не был убран. На волнах, чиркая бортам о шкоут, чуть, покачивалась гичка.
Софья, не раздумывая ползла по трапу вниз. С непривычки спускаться по веревочной лестнице было трудно – трап раскачивался, мешала длинная юбка.
Но Софья не смотрела ни на что. Она хотела поскорее уйти от этой проклятой «Периной тяготы».
VI
Возницын поднялся и сел – лежать на лавке больше не было никаких сил: заедали клопы.
А спать хотелось мучительно. Почесываясь, Возницын глянул в окно.
Полная луна стояла над портом. До третьего битья в колокол оставалось самое малое три часа. Можно было бы еще хорошенько соснуть.
– Разве свечёй их, окаянных, попробовать жечь? – подумал Возницын.
Но тотчас же понял всю бесполезность этой затеи.
– Последний огарок изведешь, а толку никакого: их тут, в щелях, чортова пропасть!
Возницын встал.
Приходилось устраиваться на ночь по-иному.
Возницын убрал со стола на подоконник чернильницу и свечу, сгреб связку кожаных билетов (они выдавались на вынос какой-либо вещи из порта) и бросил их на лавку, в угол, где уже лежали парик, треуголка и шпага; швырнул туда же ключи от пороховых погребов и разных магазейнов и амбаров, которые, по регламенту, дневальный офицер должен был держать «в великом бережении», и стал укладываться на столе.
Возницын положил под голову свою старую шинель и лег. Но как ни ложился Возницын, его ноги все равно свешивались со стола.
– На таком столе Андрюше Дашкову спать еще туда-сюда… – иронически подумал он, ерзая по столешнице. И все-таки в этой неудобной позе Возницын задремал и не слышал даже, как в караульную избу вошел матрос.
– Ваше благородие, – робко окликнул он дневального офицера.
Возницын встрепенулся.
– Кто там? Что надо? – недовольно спросил он, подымая голову.
– Это я, ваше благородие, гребец Лутоня.
– Ну, что случилось?
– У седьмого нумера женщину из реки вытащили – утопала, – козыряя, докладывал матрос.
Взяла досада, теперь-то уж наверняка не придется спать – надо будет звать лекаря, опрашивать утопавшую, потом писать рапорт.
Возницын свесил со стола длинные ноги.
– Должно быть, опять кто-нибудь пьяную куму на берег провожал, да и ввалил в реку? – спросил Возницын, слезая со стола.
– Никак нет, ваше благородие. Они одни плыли в гичке. Хотели причалить, встали маленько на борт – и готово, – словоохотливо рассказывал матрос. – Я сплю, слышу ровно кто кричит: спасите!
– Ладно – перебил его Возницын: – Волоките сюда эту полунощницу, ежели сама ходить может!
– Как же, они маленько плавать умели…
Матрос исчез за дверью, а Возницын, тем временем, надел парик, нацепил надоевшие до-нельзя лядунку и шпагу. Потянулся, зевая и улыбаясь:
– Наверно, бедняжка, икает с перепугу! – подумал он. И представил себе: мокрая, ровно курица, грязная, пьяная баба…
Возницын высекал у стола огонь и зажигал свечу, когда послышались голоса.
– Вот сюда, сюда!.. – говорил матрос. В караульную избу кто-то вошел.
Возницын обернулся и остолбенел от удивления: перед ним, вымокшая до нитки, стояла наставница детей капитана Мишукова, та, синеглазая еврейка!
Возницын сразу признал ее, хотя она за эти годы значительно покрупнела и округлилась.
Увидев Возницына, она всплеснула руками:
– Сашенька!
Попятилась назад и вдруг как-то осела наземь. Возницын бросился к ней вместе с матросом. Они подняли Софью и положили на лавку.
– Воды! – кликнул Возницын.
Матрос кинулся в темные сени, загремел ковшом, притащил воду.
Возницын взял из рук матроса ковш и сухо сказал:
– Можешь итти!
Матрос ушел, посмеиваясь в усы:
– Кума-то кума да еще чья – неведомо!..
Возницын осторожно брызнул в лицо девушки. Лицо задергалось, но глаза продолжали оставаться закрытыми.
Тогда Возницын в испуге стал трясти Софью за плечи, точно ребенок уснувшую няньку:
– Машенька!..
– Оленька!..
– Катенька!.. – звал он, не зная ее имени.
Наконец девушка открыла глаза и приподнялась.
– Меня Софьей звать, – смущенно улыбаясь, сказала она.
Софья поспешно отодвинулась от Возницына – она боялась, что Возницын услышит винный запах.
– Как вы сюда попали? Куда вы ехали? – участливо спросил Возницын, садясь на лавку.
Он говорил, стараясь не глядеть на Софью, не видеть ее голых плеч и груди, которые слабо прикрывало мокрое платье.
– Это – потом. Сперва мне надо бы обсушиться! Я озябла…
Возницын только теперь заметил, что Софья стучит зубами от холода.
– Я принесу халат и стакан вина! Вино хорошо согреет, – вскочил он, хватая с лавки треуголку.
– Нет, нет, ради бога, не надо вина! – в испуге замахала руками Софья. – Только халат! И кабы можно было затопить эту печь! – попросила она.
– Отчего ж? Я мигом затоплю! – засуетился Возницын. Он открыл дверцу.
– Щепа в ней есть, остается лишь поджечь.
Он хотел уже взять со стола свечу, но Софья ласково остановила его: