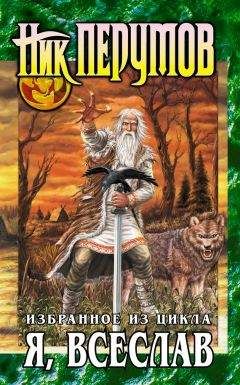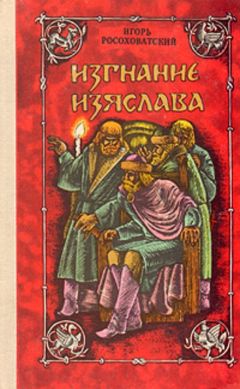Леонид Дайнеко - Всеслав Полоцкий
— Встань, брат, — сказал Гневный. — Встаньте, братья.
Оказывается, он все и всех видел, хотя глаза у него и были завязаны. Он повернул бритую, блестящую под лучами солнца голову туда, где стояли Беловолод и Ульяница.
— Мир вам, что за любовью пришли, — обращаясь только к ним, сказал Гневный. — Вы оставляете нас, возвращаясь в греховный мир, где все покупается и продается: свобода, человеческая плоть, любовь. Вспоминайте там, в содомском мире, чистоту нашей общины.
Ульяница с замиранием сердца смотрела на Гневного и думала: он завязал глаза не только потому, что боится солнца. Если сорвать рушник, то все увидят след от удара тяжелым железным замком. Она. была уверена, что там, в бане, убила его, попав в висок, а он вышел, вот — стоит перед всеми, как бог. Он говорит о вечной чистоте общины, и рахманы верят каждому его слову, сам же он, как ничтожный червяк, ползал недавно у ее ног, вымаливая женскую ласку и нежность. Кто же он? Дьявол или святой? Зима у него в сердце, хоть и осыпает он всех теплыми, как солнечные лучи, словами.
— Я возвращаюсь во мрак, — сказал тихим голосом Гневный.
— Не оставляй нас! Побудь с нами еще хоть немного! — завопили, зашумели рахманы. Великая любовь и отчаяние слышались в их криках.
— Прощай, солнце, — воздел руки к небесам Гневный. — Ради того, чтобы ты светило всем и грело всех, кто-то должен жить в темноте.
Он поклонился солнцу, поклонился рахманам, медленно пошел к тому месту, где виднелся вход в пещеру.
— Не оставляй нас! — бросились следом рахманы, но он, не оглядываясь, остановил их движением руки и исчез под землей.
— Горе! Горе нам! — завыла толпа. Некоторые начали рвать на себе волосы, как это делают женщины в минуты печали. Добрый с грустной улыбкой смотрел на возбужденных рахманов. Среди них были не только молодые, но и деды сивогривые, и слезы катились по их старческим щекам, крупные, неподдельные.
Беловолода и Ульяницу больше ничто не задерживало в общине. Молча дошли они до стены, молча, с помощью коловорота и веревочной лестницы, перелезли через нее и только там, за стеной, в пуще, с облегчением вздохнули. Казалось, кончился какой-то нелепый и непонятный сон.
— Никогда бы не поверила, если бы не видела своими глазами, что есть такие, — сказала Ульяница.
Беловолод молчал. Пока он не мог выразить словами того, что было у него на душе, что заставляло по-новому смотреть на себя и на мир, в котором радуются солнцу и мраку, дышат, страдают, надеются на вечную жизнь совсем не похожие друг на друга люди. Он чувствовал, как повзрослел за эти три дня, повзрослел и понял такое, о чем не только говорить, но в чем и признаваться самому себе еще рано, еще не время.
Они шли к реке, и с каждым их шагом лес становился глуше, все чаще попадались бесконечные завалы из деревьев, когда-то рухнувших под напором ветра или от старости. Некоторые из них уже заросли высокой влажной травой, которая с самого своего рождения не видела солнца. Сучья деревьев тянулись из этой глухой травы, как руки утопленников.
Наконец лента Свислочи затрепетала впереди. Они очень обрадовались реке, потому что река — это движение, дорога, Менск…
Ядрейка сидел на берегу и поддерживал костерок, бросая в огонь свежий лапник, чтобы выше поднимался столб синего дыма.
— Давно жду вас, бояре вы мои дорогие, — вскочил Ядрейка, услышав их шаги. — Чего только не натерпелся за эти дни и ночи! И комары меня жалили, и медведь-шатун подходил, и кто-то скрипел в пуще костяным голосом. Только сомкну глаза, а он — др-ру-у… дру-р-ру-у…
— Мы, дядька, больше натерпелись, — сказала Ульяница, ища глазами лодку-плоскодонку. Ей хотелось как можно скорее отчалить от этого берега.
— Твое терпение известное, женское, — широко улыбнулся Ядрейка. — Так уж Бог сотворил вас, женщин. Ого-го-го, какая сила в вас! А так с виду девки податливые, мягкие, ну хоть ты в узел их вяжи.
И в это время вдруг послышалось шипение стрелы. Беловолод, как раз выводивший лодку из-под развесистого куста на чистую воду, растерянно оглянулся. В просмоленный бок лодки, между его рук, впилась длинная стрела. Она еще трепетала, подрагивала всем своим оперением, будто жалела, что не угодила в шею или спину человеку. Среди деревьев заметались какие-то тени.
— Это Гневный их послал! — в отчаянии закричала Ульяница. — Он всех нас хочет погубить! Чтобы не знали, чтобы никому не рассказали!
Беловолод схватил Ульяницу, положил на дно лодки, закрыл своим телом. Рядом тяжело упал в лодку Ядрейка. Лодка закачалась, заюлила, казалось, вот-вот зачерпнет бортом.
Руками они оттолкнулись от куста, потом Беловолод вспомнил о весле, схватил его и начал с натугой грести. Стрелы полетели плотным роем, и одна из них все-таки настигла Ядрейку, обожгла ему левое плечо. Морщась от боли, рыболов выдрал ее из тела, швырнул прочь от себя, крикнул:
— Чтобы вороны каркали над теми, кто на людей охотится!
Стрелы били по воде. Били со свистом и шипением. Вдруг на берегу, где засели лучники, поднялся шум. гвалт. Наверное, появилась какая-то новая сила и напала на людей Гневного. Лучникам теперь было не до реки, не до лодки. Ядрейка осмелел, с угрозой выкрикнул:
— Я отрежу всем вам большой палец правой руки, и вы никогда больше не возьмете лук! Это говорю вам я, Ядрейка!
Его голос был полон решимости и отваги. Тот, кто не знал Ядрейку, не видел его висящим на березах, мог подумать, что он первый храбрец во всей Полоцкой земле.
— Живы ли вы? — спросил он у своих спутников, вжимаясь на всякий случай в лодку.
— Кажется, живы, — ответил Беловолод.
— И то хорошо. Надо жить, бояре вы мои дорогие.
Ядрейка пересилил страх и поднялся во весь рост. В это время на берег выехал на вороном тонконогом коне вой, крикнул:
— Кто вы, люди?
— Мы плывем в Менск! — за всех испуганно ответила Ульяница.
— Ничего не бойтесь и плывите ко мне, — приказал вой. — Я дружинник полоцкого князя Всеслава. Зовут меня Романом.
Глава третья
Ветер дует в чертовы дудки.
Сом бушует в бездонье виров.
Где Голотическ? Где Дудудки?
Где гремящая слава отцов?
IВеликий князь киевский Изяслав вместе со всем двором, вместе с близкими ему боярами и княгиней Гертрудой, вместе с придворными дамами, поварами и гудошниками плыл на пяти ладьях в днепровские заводи пострелять сизых уточек и белых лебедей.
Еще вчера бушевала над Киевом гроза, молнии вгрызались в черную небесную твердь, и все, особенно молоденькие придворные дамы, боялись, что непогода испугает князя и тогда снова придется скучать в городе. Однако небо освободилось от обложных туч, река посветлела, успокоилась, заискрилась под ласковым солнцем, и гребцы, все загорелые, широкоплечие, в зеленых рубахах, налегли на весла. Каждая ладья имела четыре пары весел и на носу очаг — железный ящик, наполненный песком. Едва отчалили от киевской пристани, как повара принялись готовить обед. Предполагалось, что это будут легкие закуски с вином и медом. Настоящее же пиршество устраивалось обычно на одном из островов, которых немало встречалось по течению реки. Там, на острове, можно было разложить большие костры и на рожнах поджарить вепрей, косуль и зайцев, туши которых взяли с собой.
Изяслав с большим тисовым луком в руках сидел под шелковым красным балдахином, натянутым на витые медные столбики. Дно лодки покрывал огромный мягкий ковер, на котором были вытканы цветы, стебли невиданных растений и хвосты яркоперых павлинов. Вместе с Изяславом плыли боярин польского короля Болеслава Казимир, посланец константинопольского базилевса Романа Диогена Тарханиот и начальник отряда варягов-находников Торд. Это были очень разные люди, и очень разные дела и цели привели их из разных концов земли в Киев.
Изяслав только что удачно пустил стрелу, подстрелив ею крупную птицу. Один из гребцов сразу же бросился в реку, вскоре вернулся с птицей и бросил ее князю под ноги. Это был красивый селезень, с блестящей темнозеленой головой, с белой полоской на шее и с фиолетовыми «зеркальцами» на крыльях.
— Базилевс — прекрасный стрелок! — воскликнул Тарханиот и смуглыми, обнаженными по локоть руками схватил мертвого селезня.
Лях Казимир, крупнотелый и сероглазый, при этих словах ромея улыбнулся одними уголками тонких губ, и это означало, что он тоже восхищен меткостью Изяслава и что ему, а не Тарханиоту первому надо выказать восхищение. Только рыжеволосый Торд, которому когда-то в битве рассекли правую щеку, оставался, казалось, бесстрастным. Но его глаза цвета зеленоватого северного льда смотрели из-под густых светлых бровей настороженно и все примечали.
Изяслав был необыкновенно доволен. Если бы не гребец, поспешивший выслужиться перед князем, он сам бы прыгнул в Днепр и достал ту птицу. Пусть бы видели ромей и лях с варягом, какой проворный, какой сильный киевский князь. Человек, сидящий на троне такой великой и богатой державы, не может быть хиляком.