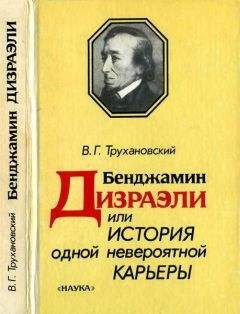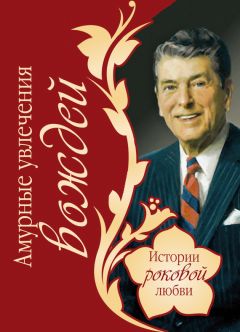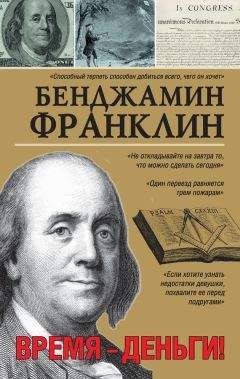Марк Алданов - Живи как хочешь
ЛИДДЕВАЛЬ: Ноты? (В раздумьи). Да, в этом ничего невозможного нет. Это даже очень вероятно.
ПЮТО: Это почти несомненно, господин барон. Я конечно ни о чем не спрашиваю, но если господин барон лично знает даму, у которой письмо было выкрадено… Я хочу сказать, временно взято для просмотра, то, быть может, господин барон знает и музыкальные вкусы этой дамы? (Бросает взгляд на пианофорте и на поднос с ликерами).
ЛИДДЕВАЛЬ (расхаживает по комнате): Послушайте… (Берет с пианофорте ноты. Решительно). Скорее всего, это ключ!
ПЮТО (радостно): «Plaisir d'amour"…, слова Флориана, музыка Мартини… Три страницы… Шесть строк текста на странице. Господин барон разрешит мне унести эту вещицу? Если ключ верен, расшифровка письма дело пяти минут.
ЛИДДЕВАЛЬ: Пройдите в комнату моего секретаря. Когда будете знать, велите мне доложить. В случае успеха вы получите не пятьсот, а тысячу франков.
ПЮТО: Господин барон чрезвычайно щедр. Но мне и такая королевская плата доставляет меньше удовольствия, чем расшифровка письма. (С увлечением). Господин барон не может себе представить, как это приятно! Это в сто раз интереснее шахматных задач! У меня интереснейшее ремесло, господин барон! Я его не променял бы ни на какое другое.
ЛИДДЕВАЛЬ: Рад за вас. У каждого человека есть свой пункт умопомешательства.
ЛИДДЕВАЛЬ. ПОТОМ ЛИНА.
ЛИДДЕВАЛЬ (кладет письмо в сумку Лины. Потом выходит и возвращается с Линой): Так головная боль у тебя прошла, моя милая? Ты голодна? Я освобожусь минут через десять и мы поедем обедать. У меня аппетит как у волка! Что ты скажешь о буйабессе с омаром?
ЛИНА (оживляясь): Я обожаю буйабесс с омаром.
ЛИДДЕВАЛЬ: Обожаешь ли ты также трюфли и утку с апельсинами?
ЛИНА: Обожаю! Пить будем шампанское.
ЛИДДЕВАЛЬ: Если хочешь. Но тебе лучше пить поменьше.
ЛИНА: То же самое мне говорил Марсель… А если я по-настоящему живу только выпив бутылку вина?
ЛИДДЕВАЛЬ: Милая, люди, которые по-настоящему живут только выпив бутылку вина, для сокращения называются пьяницами.
ЛИНА: Я этим и кончу… Постой, ты, однако, еще сегодня говорил, что требуешь чтобы женщины пили.
ЛИДДЕВАЛЬ: Я беспокоюсь о твоем здоровьи.
ЛИНА: Беспокойся лучше кое о чем другом… Все равно я естественной смертью не умру – и слава Богу!.. Да, да «играть своей головой». Ты шутишь, ты всегда шутишь: это у тебя болезнь. И потом где тебе это понять!
ЛИДДЕВАЛЬ: А Бернар понимает?
ЛИНА: Тоже нет. Мне с ним скучно… Еще скучнее, чем с тобой.
ЛИДДЕВАЛЬ (с неудовольствием): Я не знал, что тебе скучно и со мной.
ЛИНА: Со всеми. Когда я не пью.
ЛИДДЕВАЛЬ: Ты не хотела бы меня поцеловать?
ЛИНА: Хотела бы. Каких только вкусов не бывает в природе! (Целует его и отходит к пианофорте, напевая):
«L'eau coule encore, elle a change pourtant"… Что такое? (Нервно). Где ноты?
ЛИДДЕВАЛЬ: Ноты? Какие ноты?
ЛИНА: Романс, который я пела четверть часа тому назад.
ЛИДДЕВАЛЬ: Не знаю. Почем мне знать? (Он несколько смущен. Лина смотрит на него в упор). Может быть, их убрали?
ЛИНА: Кто убрал?
ЛИДДЕВАЛЬ: Лакей… Постой, да не играла ли ты без нот?
ЛИНА: Нет, я играла по нотам! (Замечает на стуле свою сумку и поспешно ее раскрывает. Письмо на месте).
ЛИДДЕВАЛЬ: Да в чем дело? Почему тебе понадобились ноты? Если они пропали, я пошлю купить в магазин. Теперь вся Франция поет этот романс.
ЛИНА (звонит в колокольчик. Входит лакей): Вы не брали нот, которые были на пианофорте?
ЛАКЕЙ: Нет, сударыня. (Смотрит на инструмент). Они были тут, когда я подавал кофе, сударыня.
ЛИНА: Вы можете идти. (Лакей уходит. Лина надевает пальто, с ужасом глядя на Лиддеваля).
ЛИДДЕВАЛЬ (растерянно): В чем дело? В чем дело?
ЛИНА: Как… Как ты…
ЛИДДЕВАЛЬ: Не надевай еще пальто. Я освобожусь только минут через десять, ты простудишься.
ЛИНА: Я уезжаю.
ЛИДДЕВАЛЬ: Куда!
ЛИНА: В Сомюр, к Марселю.
ЛИДДЕВАЛЬ: Лина, да в чем дело?
ЛИНА: Ты знаешь, в чем дело! (В дверях). Я знала, что ты негодяй, но я не думала, что ты такой негодяй! (Уходит).
ЛИДДЕВАЛЬ. ПОТОМ ПЮТО.
ЛИДДЕВАЛЬ (Ходит по кабинету с очень расстроенным видом. Стук в дверь). – Войдите. (Входит Пюто). Ну, что?
ПЮТО (с радостной улыбкой): Догадка господина барона была совершенно правильна. Этот романс и был ключом к письму. Система Юлия Цезаря. Цифрами указана не настоящая буква, а следующая за ней в порядке алфавита. Если цифры указывают, например, на букву Б, то значит, надо читать А. Эта система имеет, правда, некоторые преимущества. Дело в том, что…
ЛИДДЕВАЛЬ (перебивает его): Да вы разобрали письмо или нет?
ПЮТО (обиженно): Разумеется, господин барон. (Протягивает ему бумагу. Лиддеваль почти вырывает ее из его рук).
ЛИДДЕВАЛЬ (читает): «Номер пятьдесят четыре. Сомюр двадцать четвертого декабря полночь».
ПЮТО: Для такого письма автор мог бы с гораздо лучшими результатами использовать систему графа Гронсфельда, которая…
ЛИДДЕВАЛЬ (небрежно кладет письмо в карман): Письмо оказалось совершенно не интересным. Дело идет о пустяке.
ПЮТО: Мне всегда это говорили, господин барон. Помню, я приносил расшифрованные письма покойному Робеспьеру. Он говорил это с точно такой же интонацией, как господин барон. Впрочем, по существу это совершенно верно. Войны, революции, заговоры, казни, – что тут интересного? Так всегда было, и так всегда будет.
ЛИДДЕВАЛЬ (еще небрежнее): На этот раз дело идет об одной замужней даме… Прошу вас никому ничего не рассказывать о письме.
ПЮТО: Это тоже мне говорили все заказчики, господин барон. А министр полиции Фуше еще обычно прибавлял: «Иначе вас могут постигнуть большие неприятности, господин Пюто, очень большие неприятности"… Разумеется, я никому никогда ничего ни о чем не говорю. Болтунам место в политике или в поэзии, господин барон, но никак не в черном кабинете. Прежде, в молодости, я еще немного интересовался содержанием писем, теперь меня интересует только шифр. Если мне удается трудная расшифровка, я позволяю себе обед в хорошем ресторане.
ЛИДДЕВАЛЬ: Вот вам тысяча франков, господин Пюто.
ПЮТО: Мне совестно, господин барон. Ведь все-таки ключ дали вы. Мне, право, совестно.
ЛИДДЕВАЛЬ (перебивая): Без угрызений совести теперь на свете не проживешь, господин Пюто. Доброго аппетита.
ПЮТО: Я очень благодарю господина барона. Тройной шифр! Конечно, эта замужняя дама очень боится своего мужа… До свиданья, господин барон.
Уходит. Лиддеваль садится за стол в раздумьи, потом берет в руки карандаш и листок бумаги.
ЗАНАВЕС.
VII
– Ну, вот, теперь, пожалуй, сделаем антракт, – все так же беззаботно сказал Яценко и залпом допил виски из бокала. Настала та минута неловкого молчанья, какая обычно бывает после чтения: никто не хочет говорить первым. – Вероятно, вы очень устали? – Ему было стыдно. Читал он плохо, а главное, ему при чтении в первый раз показалось, что очень нехорош стиль пьесы. «Что-то есть в нем неестественное, точно это перевод с французского. Ох, тяжело писать по-русски об иностранцах. Вероятно, слог второй пьесы будет напоминать перевод с английского. Уж не сказалось ли на мне то, что я так долго состою переводчиком в ОН?"
– Устали? Нисколько! – ответил Пемброк. – Быть может, вы устали?
– Я нет. У меня есть привычка: в Объединенных Нациях мне случается переводить часами. После окончания сессии нам всем, вероятно, надо будет уехать на воды лечить голосовые связки, – шутливо говорил Виктор Николаевич, и тон его показывал, что незачем или не к спеху говорить о пьесе.
– Ах, какая чудная вещь! – сказала Надя. Она была смущена и раздражена третьей картиной. «Вот, значит, как он меня „активизировал“! Не ждала, не ждала! Когда же это я тебе, голубчик, изменяла с банкиром!.. Ну, ладно, это потом, теперь нужно, чтобы Пемброк взял пьесу», – думала она. – Ах, какая чудная вещь! И сколько действия! Какие роли!
– Очень благодарю.
– Я говорю правду! Я не знаю, что я дала бы, чтобы играть Лину… Если ты в самом деле имеешь в виду меня… То есть, если ты для меня предназначаешь эту роль? – говорила она.
– Первые три картины действительно недурны, – сказал Альфред Исаевич без жара. Он очень хвалил в глаза писателей только тогда, когда ничего у них приобретать не собирался. К нему нередко обращались с предложеньями авторы-новаторы. В этих случаях он называл книгу или сценарий шедевром и скорбел, что публика оценить этот шедевр не в состоянии. – «Вы не можете себе представить, дорогой мой, – говорил он в таких случаях, – как косны, инертны и невосприимчивы к искусству массы, даже наша американская. В древних Афинах ваша вещь наверное имела бы огромный успех! Но теперь толпе нужно, чтобы ей все время давали одно и то же, всякий раз с новыми штучками и тем не менее то же самое! Мы стараемся их поднять, но это процесс медленный и затяжной. Между тем вы бросаете толпе новое слово! Через десять-пятнадцать лет она поймет, она дорастет до вас, но не раньше! Вы думаете, мне легко отказываться от такого произведения?» – горестно говорил Альфред Исаевич. Он подобрел на старости лет, не любил огорчать людей, особенно же полусумасшедших, как писатели и актеры. Другие кинематографические магнаты и полумагнаты только пожимали плечами: они с ненужными им людьми церемонились гораздо меньше. Однако Пемброк своей системы не менял и не верил людям, говорившим ему, что автор может и обидеться, услышав о древних Афинах. – «Он еще подумает, что вы над ним издеваетесь». – «Я таких писателей никогда не встречал, – убежденно отвечал Альфред Исаевич, – а кроме того, я и не думал издеваться! Просто так гораздо лучше». И действительно даже новаторы обижались на него редко.