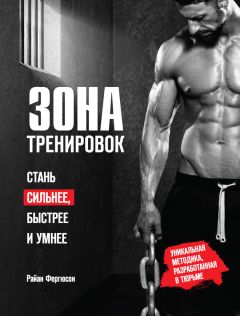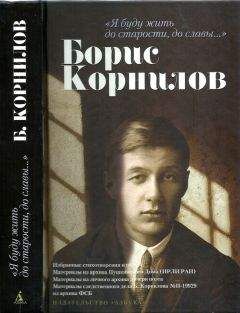Нестор Кукольник - Иоанн III, собиратель земли Русской
— В Крым — послом!
— Послом!
Двери растворились с детской половины. Леночка, Феня, княгиня Авдотья Кирилловна, няни — все хором воскликнули:
— В Крым, послом!
— Поздравляю! — уходя, сказала с досадой Елена. — Желаю счастливого пути.
— Благодарю, государыня княгиня, это, как мне теперь сдается, твой подарок. Одолжила…
— В Крым! К татарам! — увлекая Васю, восклицала княгиня. — Да там просто Содом; там море соблазна, хан греховодник, и все, все… Погибла моя головушка; детище бедное и неразумное, что с тобой хотят сделать!
— Хотят меня сделать человеком, — с притворною твердостью сказал Вася, стараясь не смотреть на мать и царевен. — Хотят… Я не знаю, чего от меня хотят. Знаю только, что на то воля государя, поэтому и Божия тут.
Княгиня также припомнила беседу Иоанна и также старалась притвориться покойною…
— С кем же ты едешь, Вася?
— С Никитиным, тем, что четки тебе поднес.
— Муж опытный и разумный. Благодарю и за это. Когда же ты едешь, Вася?
— Я пришел проститься с тобою и принять твое благословение.
— Господи! Неужели?..
— Завтра, чуть свет! — дрожащим голосом продолжал Вася. — Родимая, ненаглядная, благослови…
Вася упал перед матерью на колени, зарыдал — и поднялся вой; даже няни плакали навзрыд, а уж о царевнах и говорить нечего. Сначала княгиня, ухватив обеими руками голову Васи, осыпая ее поцелуями, обливая слезами, кричала: «Не отдам, не могу». Леночка и за ней Феня кричали: «Не давай, тетка, не давай!» Но мало-помалу опомнясь, княгиня в самых нежных, умилительных словах стала призывать благословение Божие на драгоценного сына, сняла с себя крест с мощами, надела на Васю и осенила его несколько раз знамением креста; он встал…
— Ты идешь? Нет, мой сын, еще, еще миг только…
И мать с нежностью обняла Васю… Голова юноши кружилась, сердце билось сильно; улучив мгновение, он вырвался из объятий матери и, закричав: «Прощайте», убежал без оглядки.
— А со мною, Вася, ты не простишься? — в слезах вскрикнула Елена.
— А со мною? — повторила Феодосия.
Напрасно. Васи уже не было; в казначейскую палату он вбежал запыхавшись и как вкопанный остановился перед столом, за которым сидел боярин Юрий Захарьевич. Вася опомнился, поклонился, оглянулся и, с трудом переводя дух, спросил:
— А где же подарки? Пора!
— Насилу мы дождались тебя, князь Василий! Откуда ты это так спешно бежал?..
— Спроси лучше — куда? Я замешкался, так спешил исполнить волю государя. Где же подарки?
— Вот Афанасью Никитину сданы на руки. Он тебе сподручник в этом посольстве по государеву указу, так как ты ему — в Крымском.
— Так можем ехать.
— Люди повезут сундуки и мешки за вами…
— Прощения просим, боярин!
— Василий, ты мне приходишься родственником, а по уважению к твоему знаменитому отцу ты мне больше чем родной: береги чистоту сердца, которою ты обратил на себя внимание государя, а прочее само придет…
— Боярин, у кого есть такие образцы, как ты, да брат твой, да отец мой, тому легко идти путем добрым. Сердце? Сердце мое чисто, да болит оно что-то.
— Бог милостив, — с улыбкой сказал боярин. — Проездишься, прогуляешься, свет посмотришь, и пройдет. Прости, любезный князь. Господь сохранит тебя в утешение государю и всему царству. Прости!
Князь Василий, Никитин и несколько слуг дворцовых повезли подарки в Греческую слободу; пепелище двора Меотаки еще дымилось; так как академия не сгорела, а новобрачным деваться было некуда, то Андрей послал сказать Мефодию: пусть себе ищет другого помещения; академия же по указу его, Андрея Палеолога, обращается в его походный дворец. Послы этого не знали и заехали к Ласкиру, где Вася оставил молодую чету, но Дмитрий встретил их у ворот с лицом печальным и объявил о новоселье Андрея.
Сойдя с лошадей, послы пошли пешком, потому что до академии оставалось несколько шагов, но больше потому, что Васе хотелось переговорить с Ласкиром.
— Митя! Я устоял в слове! Я смолчал про мистра Леона, но совесть моя не покойна…
— И без нас, князь, все откроется. Кажется, про ересь уже и дошло до государя. Несколько гонцов с Москвы уже пробежало на слободу; Хаим Мовша уехал из Москвы, давеча, не больше на десяти подводах, будто бы в Тверь купечествовать…
— Боюсь я, чтобы и мистр Леон не ушел…
— И этот был у нас, будто бы проведать про здоровье отца, но ты сам знаешь, зачем он был? Глаза у него что уголья… Он долго смотрел на пепелище из окна и не выдержал, сказал: «Жаль! Напрасный пожар!» Князь, как ты думаешь, а мне кажется, что этот пожар — дело рук мистра Леона.
— Легко статься может: от такого чудовища всего жди. Вот почему совесть меня мучит, что мы смолчали. Он теперь лечит царевича, по теремам без опаса ходит Я уезжаю. Кто присмотрит за этим гадом?..
— Ты едешь? Куда?
— Государь посылает меня в Крым вторым послом, и завтра же.
— И завтра же! Значит, государь догадался…
— О чем, Митя, ради бога, о чем?
— О сердце твоем: что оно больно полно царевной Еленой…
— Ну так что ж? Разве грех?..
— Не грех, а болезнь… Послали полечиться… Вчера у мистра Леона был Поппель, помнишь? Я не успел тебе пересказать, о чем они толковали. Поппель сватает Елену за императорского сына или за кого другого важного человека, так тут уже своих женихов не нужно…
Вася остановился. Он глядел то на Ласкира, то на Никитина, но так странно, что обоим стало неловко. Есть минуты поистине решительные, когда наш образ мыслей вдруг изменяет направление; чувства, быстрым потоком бежавшие своим путем к неопределенной цели, как будто встретили скалу, ударились и потекли совершенно в другую сторону; что ощущало сердце в неопределенном образе, то высказалось и определилось; иногда в эту минуту одно чувство, пылавшее в сердце, как будто вспыхивает, выгорает дотла и заменяется другим, часто совершенно противоположным.
Нередко в эти минуты легкомысленный становится благоразумным, мудрый теряет рассудок, негодяй степенится, добродетельный превращается в злодея. Эти минуты застигают человека в раннем возрасте и нередко создают то, что по-ученому зовут характером. Что сталось с Васей, увидим; только он совершенно изменился в лице, побледнел, губы дрожали, взгляд искренний, веселый отуманился оттенком подозрительности. Он преобразился.
— Что с тобою, князь? — спросил заботливо Никитин.
— Ничего. Ночь не спал; расклеился, устал… Но вот, слава богу, мы уже у берега…
В академическом саду было много гостей, в том числе и мистр Леон. Андрей важничал: он был занят Зоей, но друг его Рало объявил гостям, что он окончит грамоту к турецкому султану и тогда примет поздравление своих доброжелателей. Послы царские были тотчас же допущены к Палеологу. Вася не узнал аудитории, в которой еще вчера слушал греческую мудрость Мефодия. Эта комната, или, лучше сказать, беседка, была перегорожена богатой тканью. Скамейки ученические и столы были покрыты ларцами, мешками, поставами сукон и кусками материй; слуги Рало то и дело приносили с пепелища новые; Палеолог стоял у окна, обняв Зою, и не спускал глаз с носильщиков; когда послы вошли в академию, Палеолог сказал жене:
— Зоюшка, присмотри же за своим добром и восхваляй благоразумие покойника, а мы поспешим принять послов нашего брата Иоанна. Ба, ба, оба знакомые! А один к тому же — наш спаситель…
— Боже мой! — вскрикнула Зоя. — Холмский? Князь, извини, мы тебя принимаем по-походному…
— Извини, Зоюшка! — перебил Андрей. — Не изволь отходить от окна ни на шаг и глаз не спускай с подвалов. Не то расхитят добро твое. Вот, князь, что значит благоразумная предусмотрительность. Меотаки построил дом деревянный, а подвалы каменные и с такими сводами, что их и огнем не прошибло; а всю свою казну, товары и вина спрятал под те своды, так что пожар взял только то, что нам с Зоей не нужно уже: деревянную избу, а нам на Москве и каменных хором не надо: мы едем отсюда, как только брат Иоанн отпустит…
— Государь твоему отъезду перечить не хочет, — сказал князь.
— Я так и знал, а денег не дает…
— Нет, он прислал поздравить тебя и супругу…
— Много благодарны.
— Ларец с казной…
— Рублей десять…
— Три тысячи гривен.
— Великий Иоанн, истинно великий, я утверждаю за ним это титло.
— Лисью шубу тебе, кунью твоей супруге…
— Спасибо. Верю его мудрости, ибо только мудрый летом памятует о зиме.
— Лунскую однорядку с лаловыми пуговками.
— Великолепный Иоанн, он понимает, Палеологу нельзя ходить в веницейской хламиде или в охабне.
— Высокой супруге твоей яхонтовое ожерелье.
— Да из чего он женитьбе моей так обрадовался? Не перед добром так расщедрился…
— Сукна и шелковые ткани, парчи.