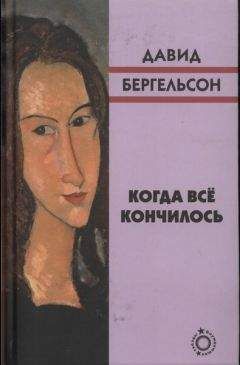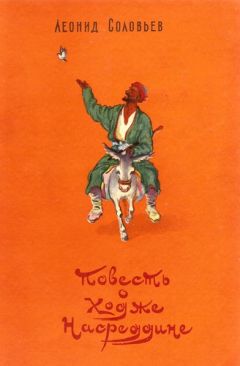Давид Бергельсон - Отступление
— Не беспокойся, — отвечает Йойна.
— Ты смотри, — говорит он братцу, — смотри, как бы богатенькие вас опять не пощекотали немножко. Хе-хе-хе!»
Он снова откинулся назад, так что ноги заболтались в воздухе, и расхохотался.
А Прегер даже не замечал, что у него на блестящей лысине и на высоком лбу сидят две мухи. Он был серьезен:
— Подождите…
Глаза помутнели, язык немного заплетался, но голова работала ясно. Ему хотелось высказаться. Прижать к переносице пенсне и высказаться.
«Во-первых, он хочет выпить за Хаима-Мойше. Он не верит ученым, они носят две пары очков, хотя могли бы обойтись одной. У них тысяча способов представить черное белым, но черное все равно остается черным. Хаим-Мойше, однако, вообще не носит очков. Он, Прегер, как-то уже говорил это в доме Бромбергов. Так ему кажется. Поэтому он хочет за него выпить. Лехаим! И Мейлах был такой же. Он держался со всеми на равных. Ради добрых отношений, наверное. Когда он, Прегер, был на его похоронах, он подумал: неужели этот человек ни разу в жизни не захотел плюнуть кому-нибудь в лицо? Но тогда и он, Прегер, не обязан за него плевать. К чему это он?.. Вот к чему: он, Прегер, не очень-то заботится о добрых отношениях, он по одну сторону, Ракитное — по другую. Залкер не даст соврать. Он, Прегер, революционер, хотя ему нравится идея насчет Палестины. Не потому, что он, упаси Боже, сионист, просто он верит, что в Палестине не смогут появиться такие отцы, как Азриэл Пойзнер. Он лавочник в шелках. И Прегер заявляет: долой шелка с лавочников! Но Азриэл Пойзнер не хочет снимать шелковых одежд. Каждую пятницу вечером у него накрыт стол. Один раз он пригласил к столу его, Прегера, и очень вежливо попросил, чтобы он перестал встречаться с его дочерью. Сказал, она еще ребенок и может из-за него разочароваться в своих идеалах. В каких еще идеалах?! Разве вы что-нибудь ей дали, — крикнул он тогда Азриэлу Пойзнеру, — кроме чеснока и хлеба?»
— Молодец! Так его! — радостно перебил Залкер. Он вроде как задремал, но встрепенулся и потянул Прегера за рукав, чтобы чокнуться. — Пинка ему под зад, ублюдку!
Тут он полез целоваться, но Прегер, в расстегнувшейся блузе, оттолкнул его, поднялся на ноги и провозгласил:
— И поэтому я говорю: лехаим! И пусть горят огнем шелковые лавочники!.. И пусть… А что, Хаим-Мойше уже уходит? Куда это он так спешит? У него что, корабли в море тонут?
«И то верно. Хаим-Мойше находит, что Прегер в известной мере прав, не потонут его корабли… Можно еще немножко посидеть. Он хотел бы сказать, что Мейлах с Прегером наверняка не согласился бы. Мейлах сказал бы: „Оставьте этому лавочнику его шелка“. Но это мелочи. Главное вот что: здесь жарко, очень жарко, воздух тяжелый… Это действует на него. Можно, он, Хаим-Мойше, пересядет туда, поближе к открытому окну? У него тоже есть претензии к Ракитному, ему не все тут нравится. До чего здесь слышен шум ярмарки! Вот, например: если б они с Прегером в один прекрасный день легли и померли, их похоронили бы на окраине кладбища, у самой ограды. В Ракитном есть такой обычай: класть молодых людей на краю кладбища, у забора. Почему, например, там похоронили Мейлаха? Он, Хаим-Мойше, этого не понимает. Спрашивал, но правды так и не добился… А может, все-таки… Может, пусть от Ракитного не останется ничего, кроме кладбища, а на кладбище самое главное — Мейлах. Он должен занимать там почетное место. Так вот: лехаим! И пусть Прегер его простит за то, что он немного ушел в сторону… Он совсем не собирался надевать очки, как говорит Прегер. Просто вспомнил одного знакомого ученого, который однажды пошел на кладбище и сел там писать историю города. А для истории, надо добавить, мертвые всегда живы, а живые мертвы. И теперь, собственно, Хаим-Мойше хотел бы кое-что спросить у Прегера. Он хотел бы знать, кто такая Хава Пойзнер, о которой говорит все Ракитное. Уж больно ему интересно».
«Кто? Хава Пойзнер? Прегер с удовольствием ему расскажет. Это человек, который желает одновременно летать и твердо ступать по земле. И это его, Прегера, беда. Но, если угодно, это не только его беда, это беда всего света. Она вся в отца. Когда-то его ненавидела, а теперь делает все, что он прикажет. Влюбилась в собственного папашу… По утрам разбивает для него яйца, солит и не отходит ни на шаг, пока он их пьет… Якобы раскаивается в своих девичьих грехах, но, если будет нужно, опять начнет грешить, и даже еще больше. Да подожди ты, Залкер!.. Куда?! Посмотри, кто там стучится».
* * *Во второй комнате, за дверью, уже несколько минут находились портной Шоелка и чернявая Лейка. Лейка, закутанная в длинную материнскую шаль, вся кипела. Этот чертов портной ее обманул, сказал, надо пойти поговорить с агентом, объяснить, почему она задержала недельную выплату за швейную машину, а сам привел ее в эту пустую комнату, где нет ничего, кроме грязного матраца. Лейка хотела сразу повернуться и уйти, но Шоелка загородил дорогу.
— Куда?
— Пусти!
— Погоди маленько!
Чернявая Лейка решила, что говорить больше не о чем. Она закуталась в шаль, так что остались видны только нос, рот и глаза, и в гневе принялась шагать по комнате. Она не хотела, чтобы он видел ее лицо. Но портной был спокоен. Он снял шапку, вытер пот со лба и свернул самокрутку.
— Убежать захотела, стерва? Дура ты… И от Бриля, студентика своего, тоже так убежала?..
Лейка совсем разозлилась. Она подошла к двери, ведущей в другую комнату, откуда слышался разговор, и принялась колотить в нее что было сил. Шоелка бросил на пол самокрутку, подскочил к Лейке и схватил ее сзади за талию.
— Отойди от двери!
— Не отойду!
— Отойди, кому сказал!
Лейка не подчинилась. У портного лицо и глаза налились кровью. Прижав девушку к себе, он попытался оттащить ее от двери. Лейка упиралась, он приподнял ее и понес к кровати, накрытой грязным матрацем. Девушка извернулась у него в руках, и они оказались лицом к лицу друг с другом. Шоелка приподнял ее повыше, швырнул на матрац и навалился сверху на нее всем своим весом. Руки у Лейки были сильными и гибкими, как рессоры. Портной прижал их к кровати. Он тяжело дышал.
— А! Смотри-ка, а мордашка-то мокрая! А пахнет как! Студентиком Брилем пахнет?
Она быстро отворачивалась то в одну сторону, то в другую, не давая ему прижаться губами к ее рту. И вдруг впилась зубами ему в плечо. Но тут распахнулась дверь в комнату Прегера…
* * *Хаим-Мойше ушел. Он оставил Залкеру список инвентаря и медикаментов и пошел к себе в лес. Оборотень с жидкими волосами на подбородке, склонившись над гармонью, опять захрипел в такт отрывистым и протяжным звукам.
Прегер лежал на жесткой кушетке, положив руки под голову, и обдумывал все, что произошло в этот день. Он давно не говорил о Хаве Пойзнер, а сегодня пришлось. Прегер чувствовал себя встревоженным и усталым.
В комнату уже проникали сумерки. Солнце садилось, первый ярмарочный день отшумел и медленно умирал. Разъезжались телеги, убегали, спешили прочь из города, на них хрюкали и повизгивали связанные свиньи. Где-то били в бубен: свадьба у деревенских, или просто так, парни напились, девки пляшут…
Залкер в одиночестве сидит за столом, уставленным пустыми и недопитыми бутылками, и пьяным голосом зовет из соседней комнаты Шоелку и чернявую Лейку.
Прегер встает, одевается и в полупьяном, каком-то тревожном состоянии отправляется побродить по ярмарке. Очень странный день выдался сегодня. Прегер идет с площади на площадь и видит, как его ученики тут и там стоят под навесами, помогают потным лавочникам, своим отцам. Они его любят, его дети.
— Здравствуйте, учитель! — кричат они со всех сторон и смеются.
Позже вечером, когда он возвращается по опустевшей площади, он опять видит своих учеников. Они роются в разноцветных кусках оберточной бумаги и поломанных ящиках, оставшихся на месте палаток, что-то ищут. Роются, ищут, роются, ищут…
XVIII
В четверг вечером, когда уже разъехались последние телеги, дети бродят по опустевшей площади, что-то ищут среди обрывков бумаги и сломанных ящиков.
По городу кружит новенький блестящий фаэтон, глубокий, массивный, на резиновых шинах, с упругими рессорами и высокими, мягкими сиденьями в виде синих квадратных подушек. Сильные лошади с изящно изогнутыми шеями везут его по улицам, гремят копыта, пружинят рессоры, мелькают спицы, сверкают в лучах заходящего солнца. Правит Ян, верный слуга Деслера из Берижинца. На нем клеенчатая шляпа с латунными заклепками, а кнут он держит, как заправский возчик. Непонятно только, с чего это он часами разъезжает по всему Ракитному?
На следующий день, к вечеру, он появляется снова. Опять весело ездит по улицам туда-сюда. Выходит, сильным вороным коням ничего не стоит примчаться из Берижинца в Ракитное? Может, роскошная упряжка приезжает сюда за какими-то новостями? Городу любопытно, он хочет знать, в чем дело.