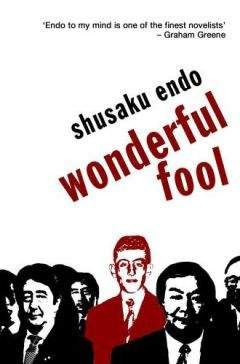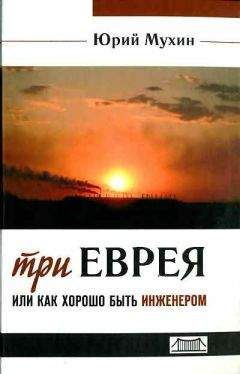Сюсаку Эндо - Молчание
«Pange lingua! - Пой же, язык мой! - он почувствовал, что по щекам текут слезы. - Bella Premynt hostilia. Da robur, fer auxilium...26 Пусть делают со мной, что хотят, - я никогда не отрекусь...»
***После полудня проехали городок Исахая. Здесь была большая усадьба, окруженная глинобитной стеной и рвом, а вокруг теснились дома под тростниковыми крышами. Возле одной из хижин самураев приветствовало несколько человек с мечами за поясом; они принесли два деревянных ящичка с рисом. Пока самураи ели, священника наконец-то сняли с лошади и привязали к дереву. Неподалеку сидело несколько нищих со всклокоченными, спутанными волосами. Они пристально разглядывали священника. Он был уже не в силах ответить улыбкой. Кто-то поставил перед ним надтреснутую миску с вареной чумизой. Он рассеянно поднял голову. То был Китидзиро.
Китидзиро уселся рядом с нищими и время от времени украдкой поглядывал на священника, но, когда их взгляды встречались, поспешно отворачивался. Лицо Родригеса стало суровым. Там, на острове, он был так измучен, что, увидев Китидзиро на берегу, не имел сил даже для ненависти, но сейчас был уже не способен на великодушие. Священника обожгло воспоминание о мучительной жажде, терзавшей его на горном плато, после соленой рыбы. «Что делаешь, делай скорее!» - даже Христос прогнал предавшего его Иуду, бросив ему в лицо эти гневные слова. Долгое время Родригесу казалось, что они противоречат Господней любви, но сейчас в душе поднималось темное, жестокое чувство. «Прочь! - в гневе шептал он. - Что делаешь, делай скорее!»
Покончив с едой, самураи снова сели в седло. Священника тоже усадили на лошадь, и процессия медленно двинулась дальше. Снова бонзы осыпали его ругательствами, дети швыряли камни. Погонщики мулов и путники в дорожных плащах во все глаза глядели на самураев и Родригеса. Ничто не изменилось. Оглянувшись, он увидел, что вдали, опираясь на палку, тащится следом Китидзиро. «Прочь! - прошептал он. - Прочь!»
Глава 6
Небо хмурилось. Облака переваливали через горный хребет и скатывались в долину. Это была дикая равнина Тидзукано. Насколько хватает глаз, простиралась голая, черно-бурая земля; лишь кое-где зеленели редкие островки стелющегося кустарника. Посовещавшись, самураи приказали стражникам снять священника с лошади. Много часов трясся он на лошадиной спине - и, ступив на землю, невольно присел от мучительной боли, внезапно пронзившей тело.
Один из самураев вынул трубку с длинным мундштуком и закурил. Родригес впервые видел в Японии курильщика табака. Затянувшись несколько раз, самурай выпустил дым из сложенных губ и передал трубку товарищу. Стражники смотрели на них с нескрываемой завистью.
Они еще долго ожидали чего-то, напряженно всматриваясь в туманную даль. Кто стоял, кто сидел; иные устроились в тени, под скалой. К северу небо голубело просветами, но на юге уже громоздились тяжелые вечерние облака. Родригес тоже поглядывал на дорогу, по которой они пришли сюда, однако Китидзиро не показывался - видно, устал красться следом и повернул восвояси.
- Едут! Едут! - оповестили дозорные, указывая куда-то на юг. Там, вдалеке, появился неторопливо приближавшийся отряд конных и пеших воинов. Куривший трубку самурай вскочил в седло и галопом помчался навстречу. Не спешиваясь, он обменялся почтительным поклоном с возглавлявшим отряд всадником, и Родригес понял, что с этой минуты его передают в распоряжение вновь прибывших. После недолгой беседы прежний конвой поворотил коней и вскоре скрылся из виду, держа путь на север, где еще пробивались сквозь тучи солнечные лучи.
Прибывшие из Нагасаки самураи окружили Родригеса - и он снова двинулся в путь, трясясь на расседланной лошади.
Тюрьма стояла на склоне холма, посреди рощи. Похоже, выстроили ее недавно; строение напоминало приземистый амбар с такими низкими потолками, что невозможно было выпрямиться в полный рост. Свет проникал сквозь крохотное зарешеченное оконце и щель в деревянной переборке - такую узкую, что в нее едва можно было протиснуть тарелку: через это отверстие утром и вечером священнику подавали еду.
Его дважды выводили для дознания, и Родригес уже успел рассмотреть двор, сплошную бамбуковую ограду, ощетинившуюся остроконечными кольями, и крытую тростником лачугу для караульных. Несколько дней он находился в темнице один. С рассвета до заката священник сидел неподвижно, затаившись во тьме - как некогда в хижине углежогов, - рассеянно вслушиваясь в болтовню караульных. Порой изнывавшие от безделья и скуки стражники заговаривали с ним: так он узнал, что тюрьма стоит в окрестностях Нагасаки, но где именно, выяснить не удалось. Днем сюда долетали звуки: голоса прохожих, звон пил, стук забиваемых гвоздей - очевидно, неподалеку возводили какое-то здание, - но по ночам все стихало, слышалось только неумолчное воркование голубей.
Как ни странно, тюремная жизнь оказалась на удивление покойной и мирной. Тоска и тревога, снедавшие его во время скитаний в горах, казались теперь каким-то туманным, полузабытым сном. Он не знал, что несет каждый грядущий день, но не испытывал страха. Выпросив у караульных шнур и кусок плотной японской бумаги, он смастерил себе четки и проводил целые дни в молитвах и размышлениях над стихами Писания. По ночам, закрыв глаза и вытянувшись на полу, он грезил под воркование голубей, и жизнь Христа - миг за мигом - проплывала перед его мысленным взором. С младенческих лет светил ему этот лик, светоч грез его и мечтаний: Христос, говорящий с народом; Христос, шествующий в предутренней мгле по морю Галилейскому... Даже в чудовищной муке крестных страданий Его лик был исполнен чарующей красоты. Вот и теперь мягкий взгляд ясных, лучистых глаз устремлен на Родригеса. Разве он мог оскорбить, мог ли принести горе? При одной лишь мысли о Нем тревога и страх исчезали, как исчезает в прибрежном песке набегающая волна...
Впервые после приезда в Японию Родригес был в согласии с миром. Ему даже подумалось, что это чувство - лишь предвестие смерти, столь тихо и невозмутимо текли мгновения.
Но на девятый день его грубо вытолкали во двор. Яркий солнечный свет острым мечом полоснул по запавшим глазам, отвыкшим от солнца в полумраке темницы. Из рощи звенящим каскадом лилось стрекотание цикад, заросли алых цветов за караульней неудержимо влекли к себе взор. Только сейчас он заметил, как одичал: борода отросла, грязные космы всклокочены, как у бродяги, руки иссохли и истончились, дряблая кожа болтается на костях.
Опять на допрос, решил он, однако его отвели в домик для караульных, в каморку с деревянным настилом. Родригес терялся в догадках.
Все прояснилось на следующий день. Привычную тишину вдруг взорвали грубые окрики стражников, потом послышалось нестройное шарканье ног: в ворота тюрьмы втащили нескольких человек. До вчерашнего дня они томились в такой же мрачной темнице.
- Шевелись, пока не огрел! - кричали со злобой стражи. Пленники огрызались с равною яростью:
- А ну, не пихайся! Полегче, полегче!
Перепалка продолжалась еще какое-то время, потом все стихло. В сумерках из тюрьмы донеслась молитва: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго... Аминь»
Голоса взмывали, истаивая в вечерней дымке.
«И не введи нас во искушение»... Что-то пронзительно отчаянное почудилось священнику в этом хоре.
Шевеля губами, он прочел вместе с узниками молитву. «Ты молчал все это время,- прошептал он. - Но Ты не станешь безмолвствовать вечно!..»
На другой день он испросил позволения подойти к заключенным, трудившимся под неусыпным надзором стражей в тюремном дворе над грядками. Узники, вяло махавшие мотыгами, с удивлением обернулись к нему. И он подумал, что уже где-то видел не только их лица, но даже рваные, выцветшие крестьянские кимоно: Ну конечно! Он не сразу узнал их лишь потому, что в заточении у мужчин отросла борода, кожа приобрела землистый оттенок.
Женщина ахнула.
- Падре! Вот так встреча... Кто бы подумал...
Да, это была она - крестьянка, угостившая его теплым, из-за пазухи, кабачком. Подле нее, добродушно скаля в улыбке кривые желтые зубы, стоял одноглазый.
С этого дня Родригес, получив соизволение стражников, стал ежедневно ходить к христианам. И караульные не тревожились - понимали, что за проявленное снисхождение узники будут вести себя смирно.
Без вина и хлеба он не мог служить мессу - и довольствовался тем, что исповедовал и читал с христианами «Credo», «Pater Noster»27 и «Ave Maria».
«...He надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них...»28