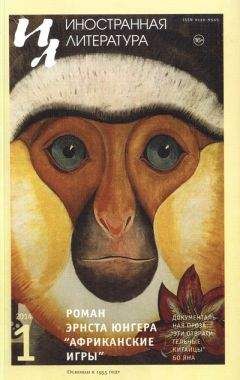Елена Хаецкая - Мишель
Истекали последние мгновения осьмнадцатого столетия…
Чуть ближе к полудню начало темнеть, а перед самым обедом собралась гроза, отчего обед было решено подавать на веранде, и не тотчас же, а чуть позже, когда немного стихнет.
Первые порывы ветра уже пронеслись над садом, тревожа сирень и задевая верхушки яблонь, а также шаля среди кружев и оборок
Юрий Петрович выбрался из дома, не дождавшись тетушкиных предостережений: надвигающаяся гроза притягивала его к себе, хотелось очутиться в братских объятиях сильных молодых струй, а если с ливнем последует и град — что ж! — стоит ли бояться града! Не в двадцать же четыре года, в самом деле, опасаться непогоды…
Он брел, сняв сапоги, по траве, опьяненный, как и она, ожиданием первого прохладного поцелуя дождя. Тяжелая капля, упавшая с неба, была теплой — успела нагреться, пока добиралась. Юрия пронзила дрожь, когда она, притворяясь сладкой слезой, сползла по его щеке.
Еще несколько минут — и хлынуло, заливая глаза и мгновенно промочив одежду. Юрий запрокинул голову, засмеялся. Он пробежал до аллеи, затем между старыми дубами прошел скорее за ограду и очутился на лугу. Трава уже созревала, но косить было рано. При каждом шаге она оплетала почти до пояса, полная таинственной скрытной жизни, которую возможно разглядеть, только если улечься животом и запустить взгляд между травинок, у самых корней.
Между тем дождь начался: тронув, точно на пробу, слабенько и тихо, полился уверенно и мощно. Так музыкант, усевшись за инструмент, поначалу легко прикасается к клавишам, как бы здороваясь с ними и привыкая к ним пальцами, а после начинает извлекать из фортепиано дивные сильные звуки.
Юрий то брел по траве, то останавливался, дозволяя струям стекать по лицу. Ему безотчетно было хорошо. Впереди он видел купы кустов шиповников, цветенье с них уже облетело, везде лежали смятые, полные воды, розовые и белые лепестки. Куст шевелился и дергался, как живой, и Юрий приблизился к нему в потоках воды.
И только возле самого куста он увидел наконец то, что мечтал увидеть с самого начала своего приезда к тетушкам Арсеньевым: запутавшаяся в колючих ветках, билась и жалобно сердилась молодая девушка. Шиповник обхватил ее платье, запустил коготки в легкую косынку на ее груди, одной веткой даже проник в ее прическу, а дождь довершил дело, испортив ее локоны и промочив до нитки.
— Боже мой! — воскликнул Юрий Петрович. — Подождите немного, я освобожу вас…
Она замерла, как пойманная птичка, и устремила на него сияющий, омытый дождем, взор огромных темных глаз — в тот миг они светились медовым, золотистым светом, полные жизни рядом с бледным голубым свеченьем крупных капель дождя. Девушка замерла, прижав острые локотки к талии. Юрий не видел, хороша она или дурна; он только знал, что она была участницей соловьиной дуэли. Матушка Юрия, дама вялая и печальная, иной раз бывала мудра и как-то сказала ему: «У юности, друг мой Юрий, имеются собственные привилегии. Никто так не споет романс о погибшей молодости, как девушка шестнадцати лет, и нигде ты не услышишь такого затаенного ликования при словах „погибшие мечты“, как в ее исполнении…»
— Как вас угораздило? — ворчал Юрий, бережно отцепляя ленту за лентой.
Девушка молчала, только вздыхала подавленно, тайно. Дождь поливал обоих молодых людей неустанно, в небесах грохотало — как будто хохотало, и Юрию слышался в этом грохотании и пушечный гром, и салют по случаю виктории — и в то же время это был стук его собственного сердца. Наконец из шиповничьего плена высвобожден был последний лоскут, и соперница соловьев вырвалась на волю — не глядя на Юрия и не сказав ему ни слова, она бросилась бежать через луг, и он долго стоял на месте, ошеломленный, и глядел, как мелькают, постепенно размываясь ливнем, косынка, развившиеся локоны, бутон прозрачного мокрого платья, прилипшего к стройным девичьим ножкам.
Должно быть, в тот самый миг Юрий Петрович Лермонтов как никогда был близок своему давнему предку — шотландцу Томасу Лермонту, певцу и арфисту, который бродил по вересковым пустошам старой Шотландии и повстречал нескольких лукавых фей, коими был увлечен в полые холмы…
* * *При следующей встрече в доме тетушек Арсеньевых Марья Михайловна держалась строго, церемонно: все локоны в порядке, косынка цела, платье свежее, ножки надежно скрыты, вопреки парижской моде, маменька Елизавета Алексеевна — поблизости и бдит.
— Дочь моя, Марья Михайловна Арсеньевна.
— Имею честь представиться — пехотного полка отставной капитан Лермонтов Юрий Петрович.
— Ах, как приятно. (Девический лепет.)
— Позвольте ручку.
— Ах, извольте. (И незабвенный взгляд медовых, бездонных, вересковых глаз — лермонтовская фея, дева из полых холмов, пленница шиповника, подруга соловьиная…)
Поздно! Не доехала вдовая поручица Арсеньева Елизавета Алексеевна до Москвы, не добралась на своих «долгих» до правильных женихов, запнулась о первого встречного, который, разумеется, согласно Машенькиным мечтам, и оказался суженым…
* * *— А давайте, Марья Михайловна, тетушкам в клубок мышь подсунем!
Тихое, девическое хихиканье. Отряжена бойкая Дунька — красть теткины клубки, которыми те создают гобелен неслыханной красы. Гобелен этот изображает девицу с кавалером в лодке, сделанной в виде лебедя. Лодка так мала, что диву даешься: как это она еще не перевернулась, не пошла ко дну, столь туго забитая роскошным платьем девицы и мощными доспехами кавалера! Да еще девице просто так не сидится — она тянется за цветком лилии, чудесным образом возросшим посреди гобеленового озера.
Этот гобелен назывался у тетушек Арсеньевых «Валуа», поскольку вышивался так, как изобрел принц Генрих Валуа, король Польский, то есть — оборотная сторона так же хороша, как и лицевая. Ни узелков, ни неправильного переплетения нитей.
Для сего «Валуа» доставляемы были цветные шерстяные нитки из самого Петербурга, и тетушки трудились над ним неустанно. Картон, по слухам, также был сотворен кем-то из знатных французов. «Оттого и глуп, — заметила как-то раз Елизавета Алексеевна. — Знатные французы — полные дураки. Вот этот Бонапарт, смотри ты, не такой. Это оттого, что он не знатный».
«Да и не француз вовсе», — добавлял тут кто-нибудь непременно.
Елизавету Алексеевну в политических — как, впрочем, и в любых других вопросах — смутить было невозможно.
«Ну, в Россию-то он не сунется, если не глуп, потому как зубы здесь и пообломает. Но против знатных французов куда как хорош. Те даже лодку нарисовать толком, смотри ты, не сумели…»
Такие разговоры несколько задевали тетушек, чрезвычайно гордившихся своим «Валуа», но отвратить их от работы, во всяком случае, не могли.
Девка Дунька, как и вся арсеньевская прислуга, в молодом Юрии Петровиче души не чаяла. Юрий был с людьми добр: мог и о нарядах поговорить, и платок подарить — просто так, от хорошего настроения, а главное — глянет по-хорошему, приобнимет, шепнет ласковое словцо, и на сердце как будто праздник начинается. Хороший барин.
Мышь решили соорудить искусственную. Маша, девушка деревенская, мышей, разумеется, не боялась. Юрий Петрович ей сказал:
— А это вы напрасно, Марья Михайловна. Барышне положено мышей и жуков весьма страшиться.
Маша смешно жмурилась — удивлялась.
— Как это, Юрий Петрович?
— А вот так! — И отставной капитан Лермонтов, изобразив вполголоса визги, изящно вскочил на табурет, поднимая при том подол воображаемого платья. — Сие есть замечательная по невинности форма кокетства, ибо позволяет демонстрировать ножки кавалерам как бы в приступе страха!
Маша смеялась, а Юрий смотрел на ее нижний зубик, выросший неровно, как бы в попытке перечеркнуть зубик соседний, и сердце в его груди медленно, со сладкой болью, таяло…
— А знаете, Марья Михайловна, — рассказывал ей Юрий Петрович, покуда Маша, усердно склонившись над рукодельем, сотворяла из обрезков меха странное кукольное существо с длинным хвостом (хвост положили сделать непременно очень длинным и голым, дабы сильнее испугать тетушек), — знаете ли, я в детстве очень любил помогать матушке мотать клубки. У этих клубков край нитки намотан на листок картона, для удобства. И вот мне в детстве отчего-то все казалось, что клубок ниток — это такой кокон, внутри коего непременно находится прекрасная бабочка. Я держал нитки и с нетерпением ждал, когда же бабочка вырвется на волю и полетит. И вот, вообразите, наставал момент, когда край нитки делался виден и нитка дергалась и взлетала как бы сама по себе, а на конце ее летала — тоже как бы сама по себе — эта картонка, совершенно точно бабочка…
А Маша рассказывала свои истории: про зеркала, про заколдованного юношу, которого видела в их глубине, и про глубокие снега, и одинокое лето, проведенное взаперти в доме, в черном платье, в запретных мечтах, рядом со скорбной матерью, которая все чаяла замолить самоубийственную смерть мужа — да еще в карнавальном наряде, в отчаянии от отказа полюбовницы продолжать их запретный роман… Уютный, домашний батюшка отец Модест, грандиозный ценитель матушкиных соленых грибочков, сменился вдруг целым сонмищем мрачных подвижников, кои приезжали наставлять убитую горем барыню. Эти подвижники очень пугали близким концом света, предлагали разные средства для спасения грешной души Михаилы Васильевича, взяли некоторое количество денег — в своем горе Елизавета Алексеевна отнюдь не утратила рассудка и жертвовала на монастыри сдержанно, — а после надоели, и вдова Арсеньева направилась в Москву, устраивать жизнь Машеньки…