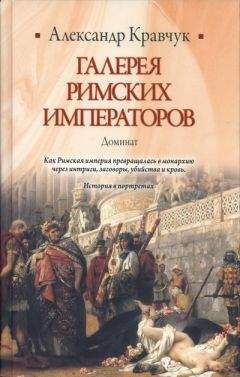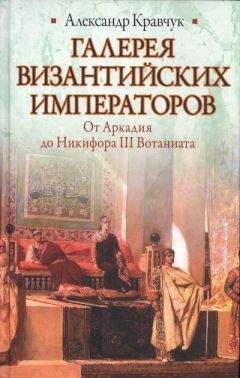Юзеф Крашевский - Из семилетней войны
Все замолкли.
— Господа, — отозвался Брюль, — если наши тайны открыты; если раньше, чем королевские войска приблизятся к нашим границам и если раньше, чем выступят французские войска, Фриц пронюхает наши планы, к тому же, если он догадается, какое я в этом деле принимал участие… то Саксония может пострадать. — Он прошелся еще несколько раз. — Я говорю это не потому, чтобы я боялся того короля, у которого на венце не успела еще высохнуть позолота… Пруссия… не совладает с нами, и это королевство должно быть вычеркнуто из списка европейских государств… Да… Для Фрица является совершенно невозможным победить нас; Австрия дает 180.000 войск, под предводительством Пикколомини и Бура; 140.000 русских направляются уже к нашим границам и столько же французов. Наших саксонцев, допустим, будет всего от 20 до 30 тысяч, шведов 18, соединенной армии королевства — 20 и из Вюртемберга — 12 тысяч… Сосчитайте-ка все это!.. Допустим, что Фриц завербует всех, даже работников, все же у него не больше полутораста тысяч. Где ж ему защищаться, если на него нападут с трех или четырех сторон?.. Значит, он погиб! — оживленно прибавил Брюль, — это ясно, как день… ни денег, ни людей, ни провианта у него нет. Погиб он, повторяю еще раз. Но для этого нужно, чтобы паши планы созрели, чтобы мы успели поставить ловушку на эту крысу.
Гуарини внимательно смотрел на говорящего, а министр все более и более увлекался и горячился: победа ослепляла его преждевременно. Глобич и Генике слушали его, покачивая головами.
— На всякий случай не мешало бы подумать немного и о нашем войске, — смело заметил Глобич.
— Еще слишком рано, — с пренебрежением перебил его Брюль; — Флеминг ручается, что в течение этого года ничего еще не будет. Союзные государства не составили еще окончательного плана и еще так скоро не могут напасть на Пруссию. Зачем же нам торопиться? Наши войска блестящи, за это ручается Рутовский, да и сам я вижу…
Советники умолкли.
— Всему свое время, и вам до весны нечего бояться. При этих словах кто то постучал в двери.
Брюль рассердился.
— Ведь я велел никого не впускать.
Секретарь подбежал к дверям и возвратился с конвертом в руках, запечатанным большой печатью.
— Депеша из Вены!
Брюль отошел к окну и с нетерпением стал распечатывать ее. По обыкновению, он очень скоро пробежал ее глазами; Гуарини, не спускавший с него глаз, заметил, как его брови начали хмуриться.
— Видно, все они заразились какой-то горячкой в Вене, — отозвался Брюль. — Флеминг сообщает, что прусский король уже спрашивает их о причине приготовлений к войне. Следовательно, он уже что-то пронюхал… Ведь они могут ему ответить, что никаких особенных приготовлений не делают. Передвижение войск, обыкновенно, можно объяснить перемещением их.
— Все можно объяснить, — шепнул Гуарини, — но этот дьявол ничему не верит.
Министр задумчиво заходил по комнате, его мысли перенеслись куда-то дальше. Глобич и Генике перешептывались между собою. Наконец, Брюль обратился к Глобичу:
— Советник Глобич, — сказал он, — прошу вас держать в строжайшем секрете насчет депеш; но надо следить за всеми, понимаете, за всеми… Пора и нам, подобно Фрицу, научиться не верить никому.
Генике подошел к Брюлю и шепнул ему что-то на ухо.
Гуарини задумчиво сидел, опершись на палку, Глобич похаживал по кабинету, заложив руки за спину. Каждый думал про себя; на некоторое время водворилось полное молчание. Первый прервал тишину вице-канцлер и попрощавшись с Брюлем, ушел вместе с Генике.
Брюль, зевая, повалился на диван и подложил под изнуренную голову свои белые руки.
Отец Гуарини смотрел на него каким-то особенным взглядом, значение которого трудно было бы угадать.
— Моя служба поистине тяжелый крест! — воскликнул Брюль. — Люди завидуют мне, но никто из них не знает, чего это мне стоит и как такая служба тяжела. На вид положение мое блестяще, но они не знают того, что я не имею минуты покоя.
— Оставь об этом говорить, — с улыбкой ответил иезуит; — я уж слышал это несколько раз… Ну, что сегодня будет? Опера, концерт, охота, стрельба в цель?..
Брюль взглянул на заметку, лежавшую на столе.
— Опера, — ответил он.
— Ну, это по моей части, — заметил Гуарини, — хотя и для этого я уже устарел… Нам бы нужно было обзавестись новыми силами, выписать других певцов и певиц.
— Своих старых артисток король любит больше всех.
— Да ведь они стали хрипеть, как и я, — сказал патер, медленно подымаясь с кресла. — В котором часу идешь к королю?
— По обыкновению, к девяти…
Гуарини собрался уходить, Брюль проводил его до дверей зала. Но едва он успел вернуться в кабинет, как через боковые двери вошла какая-то темная, подозрительная фигурка. Королевская ливрея свидетельствовала, что это был простой лакей из передней; но ведь лакеи в то время играли важные роли. Брюль подошел к нему с большей любезностью, чем можно было ожидать.
Лакей этот был из числа тех личностей, которые стерегли короля, чтобы к нему не мог никто проникнуть, ни говорить с ним, ни даже подбросить ему бумаги. Он что-то шепотом передал Брюлю и исчез.
Вслед за ним начали являться: брат министра, тайный советник Фридрих-Вильгельм, затем старший конюший двора Ян-Адольф Брюль, генерал Брюль, шурин их Берлент, граф Коловрат и много других, составлявших штат этого могущественного министра. Каждый из них подавал какой-нибудь рапорт, просьбу, спрашивал совета или сплетничал.
На серебряном подносе принесли одно письмо от графини Мошинской, другое — от графини Штернберг, жены австрийского посла.
Забежал на минутку и красивый, молодой, полный здоровья и весь сияющий сын министра, Алонзий, и когда все эти господа перебывали и на часах пробило три четверти восьмого, настало время одеваться. Туалет министра продолжался целый час, а между тем Брюль должен был явиться к королю к десяти.
Август выходил из себя, когда наставал этот час, и оглядывался в ожидании своего любимца; наконец, ему хотелось поскорее отбыть эту барщину, то есть подписать бумаги, которые ему приносили целыми стопами.
Церемония эта совершалась ежедневно, без всяких изменений; король Август каждый раз вздыхал, увидев кипу бумаг, садился за стол, пробовал сначала перья и, не просматривая и не спрашивая о содержании бумаг, с большим вниманием быстро подписывал их. По лицу его королевского величества было видно, как он трудился… Иногда, за двадцатой подписью "Август", он вздыхал и посматривал на Брюля, точно желая, чтобы тот уволил его от такого непосильного труда, но министр отвечал только снисходительной улыбкой.
— Тяжелы обязанности короля, ваше величество! — шептал он. Король при этом вздыхал еще сильнее и продолжал подписывать,
с полным сознанием святой обязанности, которую он исполнял.
В это утро пунктуально повторилось то же самое.
Отец Гуарини сидел на табурете и присматривался к этой манипуляции.
После пятнадцатой бумаги Август поднял свое добродушное лицо и, по обыкновению, оживленно спросил:
— Деньги есть у меня, Брюль?
— Как же, ваше величество!
Затем он продолжал свое занятие.
Об Австрии, о перемирии, о Фрице и тому подобных пустяках здесь и речи не было.
Когда последняя бумага была подписана, лицо короля прояснилось и глаза заблестели; он бросил перо и встал с должным триумфом, что окончил свое трудное дело.
— Брюль, — сказал он, — теперь поговорим о важных делах: мне нужны деньги; Джиовани обещает мне достать чудо в Болонье… Я знаю картину Баньякавалли и непременно должен ее приобрести. У Альгаротти тоже есть прелестные вещи.
— Альгаротти слишком дорого ценит свои вещи, — заметил министр.
— Для подобных гениальных произведений не может быть слишком дорогой цены! — живо перебил его Август. Криспи купил для меня Нинуса и Семирамиду, Гвидо Рени. Нужно отблагодарить его за то… Это гениальное произведение!
При этом король сложил руки, как для молитвы.
— Все приказания вашего королевского величества будут исполнены, — ответил министр, низко кланяясь.
— Все другие расходы… это — пустяки, дорогой Брюль, но здесь, ты понимаешь! Это единственный случай, и упустить его нежелательно… Другого такого мы не скоро дождемся, и я должен иметь эти редкости…
— Будете иметь их, ваше величество.
— Десять тысяч скуди ровно ничего не значат в сравнении с таким редким художественным произведением.
Брюль одобрительно покачал головой.
— Ваше величество, — прервал Гуарини, приближаясь к королю, — сегодня у нас "Клеофида".
— А! — воскликнул Август. — Я очень люблю эту оперу, но "Солиманну" — предпочитаю; Гассе превзошел в ней самого себя; а как поют в ней Аморелли, Монтичелли, Путани и дива.
Лицо короля при этом выражало столько экстаза и восхищение что разве только Гуарини и Брюль могли смотреть без улыбки и насмешки на это полное, округленное и залитое живым румянцем лицо, которое так ребячески разгорелось при воспоминании об опере.