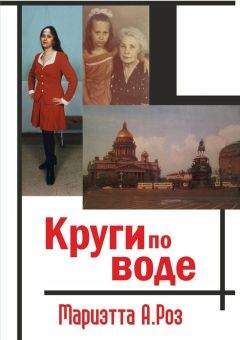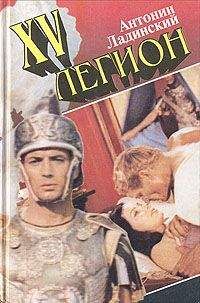Антонин Ладинский - XV легион
Но после недавних событий жизнь в Карнунте перестала казаться спокойной и безопасной. Викторий стал подумывать, что, пожалуй, неплохо было бы перенести торговые операции в Аквилею, а еще лучше в Рим. Правда, конкуренция там была сильнее, но смутная тревога на границе, хрупкое здоровье Грацианы, отсутствие в городе приличных женихов, а ведь надо было думать и об этом, все говорило за то, что надо покидать милый Карнунт.
На дунайской границе, в самом деле, было неспокойно, хотя недавнее нашествие варваров оказалось только разбойничьим набегом. Одна из враждующих между собою варварских орд, ища спасения от наседающих врагов, перешла через границу, не спросив разрешения у соответствующих властей. Уже бывали случаи, что небольшим группам варваров разрешалось переходить границу со своими стадами, женами, повозками, со всем скарбом. Их селили где-нибудь в пустеющей фракийской провинции, с обязательством некоторое количество людей послать в ближайшую вспомогательную часть. Торговые агенты Виктория, которые не хуже легионных лазутчиков знали о положении вещей по ту сторону реки, сообщали патрону, что там происходит большое передвижение племен, вечные столкновения и борьба за лучшие места, от чего сильно страдает торговля. Все говорило за то, что надо было переселяться в Италию.
Грациане Секунде, как было ее полное имя, только что исполнилось пятнадцать лет. В день рождения ее пришли поздравить подруги. Они шли прелестной девичьей толпой по дорожке сада. Две маленькие дочери Салерна, подняв пальчиками края туник, несли в подолах пригоршни последних роз. Вероника, дочь одного из меркаторов, держала в руках ящичек из оникса с духами. Другие несли сласти и медовые пирожки. Бедная Транквилла подносила подруге корзину яблок, все, что она могла подарить. Грациана сбежала к подругам по лестнице, и воздух наполнили девичьи голоса, поцелуи, ахи и вздохи.
– Какая у нее туника!
– Вышитая по краю сценами из истории Психеи!
– Какая ты красавица! – целовала Грациану Вероника, белая, широкоглазая, мать которой была родом из Потаиссы, где римляне брали себе в жены варварских дочерей.
– Вот ты уедешь в Рим и забудешь нас, – обнимала ее Транквилла.
– Никогда я не забуду тебя, Транквилла. Ты тоже приедешь в Рим. Здесь так холодно. Холоднее с каждым годом. Здесь можно замерзнуть.
Может быть, Грациана не была красавицей, но была в ней необыкновенная нежность во всем, в тонкости ее волос, цвета пепла, перемешанного с золотым песком, в ее прозрачной коже, в синих глазах, во всей хрупкой прелести ее тела. Один только рот, в уголках которого было что-то детское, согревал прохладу ее лица, римского, правильного, увенчанного чистым выпуклым лбом. Ее отсутствующий порою взгляд, склонность к одиночеству, молчаливость лишний раз напоминали человеку, который хотел к ней приблизиться, что в ней есть нечто от мраморной статуи, прелестной, но прохладной, отстраняющей руками земной теплый воздух.
У Грациана Виктория давно появились в бороде седые нити, морщины на лбу. Мало радостного было в его жизни. Только короткое счастье с Авиолой, – три года, ни на один день больше, – опечаленное неизлечимой болезнью дорогого человека и закончившееся вот в такой же прохладный день смертью, пышным погребальным костром и рыданьями. И долгие годы после этого горечь воспоминаний, заботы о дочери, единственное, что оставила после себя Авиола, суета и торговые делишки. Но как Грациана стала походить на мать!
Он сошел к девушкам, и они стали тормошить его, требуя, чтобы он устроил пир в честь Грацианы.
– Отлично, у вас будет пир. Что вы хотите на обед?
– Гуся! Гуся! – захлопала Вероника.
– Пирог с яблочным вареньем, – пропищали дочери Салерна.
– Будет и гусь и будет пирог, и много других вкусных вещей.
Вечером, когда уже надо было ложиться спать, явилась старая Пудентилла и заявила, что Грациану желает видеть какой-то человек.
– Принес тебе письмо, но желает отдать его тебе лично. Какие пришли времена! Девицы получают письма неизвестно от кого и пишут неизвестно кому, – ворчала служанка.
– Что ты ворчишь, Пудентилла? Ведь я не пишу писем. И этого письма мне не нужно.
– Нет уж, иди, иди. Очень любезный человек. Говорит, что принял меня за благородную матрону.
В сопровождении служанки Грациана вышла из дому, накинув на голову плат, к задним воротам дома, где ее поджидал неизвестный человек, так растрогавший сердце старой Пудентиллы.
– Что тебе надо? – спросила Грациана, со страхом осматривая дорожный плащ путника, мешок за плечами, палку в руке. Не то бородатый философ, не то бродячий фокусник.
– Ты будешь Грациана Секунда, дочь Виктория? – спросил старик.
– Я – Грациана Секунда.
От незнакомца пахло вином.
– Это тебе письмо от нашего трибуна.
– От какого трибуна?
Даже сердце ее забилось от этих слов.
– Мы пришли в Византию, и там вышел срок моей службы. Двадцать лет. И трибун, когда узнал, что я собираюсь идти в Виндабону, где я присмотрел себе лавчонку, когда наш легион был в этих местах...
– Какой легион? Ничего не понимаю.
– Я же тебе говорю. Когда трибун узнал, что я иду в Виндабону и буду проходить через Карнунт, он сказал: когда будешь проходить через Карнунт, это тебе по дороге, то разыщи там дом Грациана Виктория. А у Виктория есть дочь, Грациана Секунда. Так передай ей тайно это письмо. Вот тебе золотой.
Грациана держала в руке письмо и не знала, как с ним поступить. Если бы узнал отец!
– Я не знаю никакого трибуна, – сказала она с недоумением, – как же его зовут?
– Агенобарб Корнелин. Вот как зовут нашего трибуна...
При свете светильника, упав ничком на ложе, Грациана осторожно развернула трубочку папируса.
«Грациане Секунде от Тиберия Агенобарба Корнелина, трибуна, – привет.
Прости меня, если можешь, за необдуманную смелость, с которой я посылаю тебе это письмо чрез посредство Валерия Квинта, ветерана. Но скоро мы начнем новую войну, и, может быть, в какой-нибудь парфянской кузнице уже куют стрелу, что пронзит мое сердце на поле сражения. Поэтому прости, не гневайся, не удивляйся. Я видел тебя только раз, когда ты стояла на ступеньках храма и смотрела среди других дев на вступление в Карнунт нашего легиона. Зачем я пишу тебе и беспокою тебя? Не знаю. Но мне хочется сказать тебе, что есть на свете человек, который будет умирать с твоим именем на устах. Это я. Человеческая жизнь стоит немногого. Но все-таки пролей единственную слезу, если услышишь случайно, что меня нет в живых...»
Впервые в жизни ей говорили о любви. Она перечла еще раз письмо с бьющимся от волнения сердцем, и в самом деле слеза скатилась на маленький листик.
– В парфянской кузнице уже куют стрелу... – перечла она.
Никто еще не говорил ей о любви. Виргилиан?
С Виргилианом было другое. Виргилиан никогда не говорил о любви. Может быть, хотел сказать иногда, она это чувствовала, но никогда не говорил. Почему он не сказал ни разу, что любит ее? Ах, если бы побежать сейчас к Транквилле, показать ей письмо! Но теперь темно на улице, у ворот, наверное, сидит сторож.
Надо было отложить разговор с Транквиллой на завтра.
Ложась спать, она все еще думала о письме; так странно знать, что где-то там, в Византии, а может быть, еще дальше, есть человек, который говорит, что умрет с ее именем на устах. Только говорит. А в ту минуту, когда его пронзит парфянская стрела, он, наверное, не вспомнит о ней. Или вспомнит?
Она зарылась в подушки, в меховое покрывало, потому что в спальне было холодно, и даже шел пар от дыхания, потушила светильник и уснула с улыбкой.
На Дунае стало так холодно, что думали – вот-вот выпадет снег. Странным городом казался Карнунт в те дни, когда с небес падал медленный снег, кружился, покрывал нежным покровом улицы и крыши храмов, ложился на плечи мраморной богине, на ветви черных деревьев, на грядки виноградников. В такие дни обманутому лётом снега глазу казалось, что все уплывает, плывет, движется, все – квадрига на триумфальной арке, колонны, здания, базилики и деревья. Казалось, что Рима нет, что все только приснилось народам – статуи и квадриги, величие Рима и его победы, что вот все занесет снегом, и тогда не будет ни кораблей, ушедших в Африку, ни каменных дорог, ни акведуков, ничего...
По получении гневного и язвительного письма от августа, который всячески пенял на задержку Пятнадцатого легиона, Флавий Макретиан отдал распоряжение, чтобы Цессий Лонг вел свой легион на Восток. Местом назначения была указана Антиохия. Военные приготовления на дунайской границе были приостановлены, постройка понтонных ладей и транспортных судов для перевозки конского состава, так называемых «гиппег», прекращена. Император совсем не желал, чтобы лавры достались не ему лично, а кому-нибудь из его легатов. Другая, более достойная причина – невозможность разбрасывать силы ввиду предстоящей войны с Парфией.