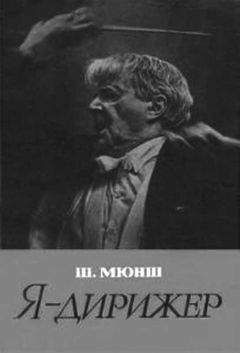Полубородый - Левински Шарль
Я хотел сам выкопать для неё могилу, но Поли отнял у меня лопату. Он вгонял её в землю так, будто мог что-то изменить своей яростью. Яма получилась неодинаковой глубины, и края были неровные, но я ничего не сказал.
Из Айнзидельна прислали монаха для упокойных молитв, потому что наш лес входит в монастырскую вотчину. Гени попросил монаха у могилы передать князю-аббату просьбу взять меня в монастырь подопечным, а позднее, может быть, учеником. Кто-то должен теперь обо мне позаботиться, поскольку я сын фогта. Гени сказал, ему это не под силу, потому что он сам обуза людям. А принять меня в монастырь – это было бы возмещением, он просил так и передать аббату, потому что несчастье с ним случилось на монастырских работах.
Спустя пару дней пришло известие, что аббат согласился. Гени сказал, что я должен отправиться туда немедленно; мол, если такие дела откладываешь на потом, они могут и не исполниться. Воспринял он это тяжело, я видел по нему, но в то же время и с облегчением. Я хотя и был ему братом, но ведь теперь означал и ответственность.
Гени велел Поли отвести меня в Айнзидельн.
– Так вы хотя бы попрощаетесь как следует, – сказал он.
Но мне по дороге было не до разговоров, Поли тоже не проронил ни слова. На прощание он хотел подарить мне свой лук, но я не взял. В монастыре нельзя иметь ничего своего, а кроме того, ему было жалко лука, это я тоже заметил. Перед тем как мне войти, он меня обнял, и это было странно. Раньше он никогда этого не делал.
Я не заплакал, хотя слёзы подступили.
Я ожидал, что в монастыре всё будет святое, но там было прежде всего холодно. Тепло только в библиотеке, благодаря свечам и потому что переписчики сидят тесно друг к другу. Но мне запретили туда входить, хотя именно там мне было интереснее всего, и не только из-за тепла. Я-то по неразумению думал, что на свете существуют только две книги. А их оказалось сотни, и все их приходилось переписывать, потому что если какая-то книга всего одна и с ней что случись, будет очень глупо.
В трапезной, это там, где едят, всегда горит жаркий огонь, но не в том конце, где сидим мы, подопечные аббата и ученики. Нам разрешено только дрова подносить к камину. Мне кажется, что мёрзнешь ещё сильнее, когда видишь, как других разморило от тепла. Рядом с князем-аббатом Йоханнесом сидит брат Адальберт, это как раз тот монах, который тогда был в церкви Петра и Павла по случаю происшествия в Финстерзее, и его должность называется «приор». Я сразу же узнал его по голосу; когда он говорит, слышно во всём помещении. Вообще-то во время еды нельзя разговаривать, потому что в это время кто-нибудь что-то читает вслух, но если о чём-то спросит аббат, надо отвечать.
И еда совсем не такая, как я себе представлял. В деревне рассказывают всякие небылицы о том, чем кормятся в монастыре, а на самом деле всё не так. За ту малость, какую здесь дают, Чёртова Аннели не рассказала бы и половинку истории. Посудину с едой вначале выставляют перед аббатом, потом двигают её вдоль длинного стола, сперва к высокородным монахам, потом к монахам попроще, а когда она доходит до нас, из неё уже повыловлено всё хорошее. Гени сказал, надо стиснуть зубы, но если бы между зубами хоть что-то было. Брат Финтан говорит, что обжорство – смертный грех, но желание поесть досыта – это ещё не обжорство, я считаю.
Брат Финтан – главный над послушниками и должен опекать новичков в монастыре. Но он скорее сторожевой пёс, а мы, подопечные аббата и ученики, – это овцы, на которых он лает. Он говорит, что не выбирал себе такую должность, исполняет её только из бенедиктинского послушания и каждый день молится, чтобы аббат дал ему какое-то другое задание, которое привело бы его ближе к Господу Богу, но я ему не верю. Когда он раздаёт затрещины или бьёт нас палкой, видно, что это доставляет ему удовольствие. На каждый проступок у него особое наказание. Если, например, опоздал к заутрене, то должен до первого часа стоять на коленях в часовне, да не на полу, а окровавленными коленями на ветках шиповника; по пятницам мы всегда нарезаем свежие. Если веткам больше недели, говорит брат Финтан, то шипы уже подвяли и больше не колются.
Я тоже один раз проспал утреню и стоял потом на шиповнике, но это была не моя вина, а сам Финтан нарочно нас не разбудил, хотя это его обязанность. Он сказал, что сделал это из воспитательных соображений, дескать, мы должны учиться сами нести ответственность перед Господом. Но я думаю, он просто искал повод для наказания. А жаловаться нельзя, даже если ты прав, иначе отведаешь палки. «Стегай своего сына прутом, и ты спасёшь его душу от гибели», – говорит он, дескать, таково бенедиктинское правило. Если бы я в самом деле был его сын, а он мой отец, я бы молился за то, чтобы он ушёл охотиться на серн и там сломал себе шею.
Первую порку я получил в первый же день по прибытии в монастырь, за вопрос, можно ли мне здесь научиться писать. «Вот ужо я вобью тебе в башку скромность, положенную бенедиктинцу, – кричал брат Финтан, – даже если мне придётся обломать о твою спину десять палок, Евсебиус!» Я до сих пор не привык, что меня зовут Евсебиус; в деревне меня никто так не называл.
Несколько недель я исполнял работу свинопаса. А настоящий свинопас – не брат, а просто местный житель, Балдуин его звали – так неудачно оступился, что сломал руку, и теперь надо было ждать, когда она срастётся. В монастыре работа свинопаса тоже считается самой низшей из всех. У нас в деревне эту работу справлял Придурок Верни, это как раз по нему, и когда он присаживается где попало сделать кучку, свиньям это не мешает. Погнать стадо пастись под дубами – это нетрудно, а когда забираешь для них объедки с кухни, ещё и перехватишь, бывает, кусок для себя. Но ведь приходится и свинарник чистить, а там стоишь в дерьме по щиколотки, это противно, особенно потому, что на мне только моя собственная одежда. Монашеский хабит надо заслужить, сказал брат Финтан, и он сам определяет, когда уже пора.
Нас тут всего два подопечных аббата; все остальные новички – это ученики или послушники, у которых уже выстрижена небольшая тонзура. Второй подопечный года на три старше меня, а можно подумать, что он целую вечность взрослый. Зовут его Хубертус, но назвать его Хуби нельзя, обидится. Мы не подружились, я для него незначительная личность, но в трапезной мы сидим рядом и работаем часто вместе. И хотя Хубертус тоже подопечный аббата, он уверен, что это ненадолго и скоро он станет учеником. У него уже и хабит есть, он принёс его с собой в монастырь, причём из добротной ткани. У него есть даже запасной наплечник к нему, и если на одном наплечнике он замечает хоть малейшее пятнышко, то сразу его стирает, а сам надевает другой. Он говорит, если хочешь чего-то добиться, важно, как ты выглядишь. У нашей матери тоже была подходящая поговорка: «Каким заявишься, таким тебя и примут».
Я не хочу о ней вспоминать, это очень грустно.
О себе Хубертус ничего не рассказывает; даже если спросишь, откуда он родом, и то отвечает уклончиво. Знаю только, что он из Энгельберга; думаю, что из богатой семьи, и дело не только в собственном хабите, но и вообще. Когда человек с детства не знал голода, он и выглядит не так, как мы. Он мне чем-то напоминает младшего Айхенбергера: когда у того вдруг заурчит в животе, он теряется – не знает, что означает этот шум. Да и брат Финтан, кажется, осторожен с Хубертусом; по крайней мере, я ещё не видел, чтобы он дал ему затрещину. На грязные работы – со скотом или в поле – его никогда не распределяют, поручают только лёгкое: например, полировать серебряные подсвечники с алтаря. Наша мать называла такое «работа для задницы», потому что это можно делать сидя.
Я не хочу о ней вспоминать.
В монастыре, а этого я тоже себе уж никак не представлял, сплетничают и злословят ещё больше, чем в деревне, и я сам слышал, как два монаха шушукались, что Хубертус якобы побочный отпрыск одного прелата из Энгельберга, а то даже и аббата тамошнего монастыря. Мне всё равно, чей он отпрыск, я тоже не из благородных. С Хубертусом я хотя бы могу говорить; для монахов же я совсем ничто, а послушники зажимают рядом со мной нос. И мне совсем не мешает, что говорит он всегда только о себе: что он может и кем потом станет. Но он и в самом деле многое может, такие дела, какие и ученику не по плечу, да и послушнику такому ещё надо обучиться. Например, он может наизусть пропеть всю мессу, от Introitus [10] до Ite missa est [11] и он даже знает, что эти слова означают. Однажды он мне это продемонстрировал, со всеми положенными движениями, только что святого причащения у него не было. Я всё время боялся: вот-вот грянет молния с небес, потому что с такими вещами не играют. Но не грянула никакая молния.