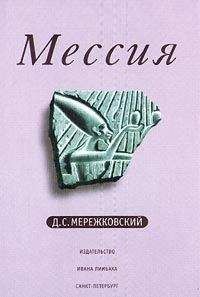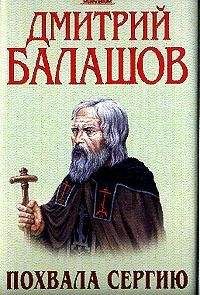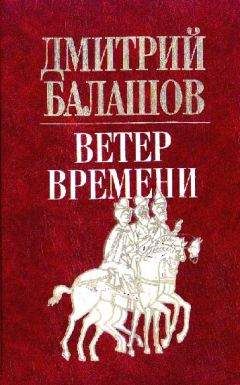Дмитрий Мережковский - Рождение богов. Тутанкамон на Крите
День тянулся так же бесконечно, как ночь, и так же мгновенно погас: только что солнечный свет падал на стену радужным зайчиком сквозь разноцветную пленку рам, и вот уже опять засветились лампады в часовенке. Опять ночью бродила она, не находя себе места, и билась тихонько головой об стену.
Так прошло три дня. Все ничего не ела. Начинала слабеть. Голова тихо кружилась от слабости; тихо уносили ее, укачивали какие-то мягкие волны. Не укачают ли до смерти? Нет, знала, что не умрет, пока не сделает чего-то. «Что надо сделать, что надо сделать?» — повторяла с мукою, как будто забыла, хотела вспомнить и не могла.
Заходила мать Анаита. Что-то говорила, умное и доброе. Но она не понимала: слова не входили в сердце ее, как хлеб в горло. Поняла только, что мать Акакалла очень больна, может быть, скоро умрет, и она, Дио, будет великою жрицею. «Не великая жрица, а мокрая курица!» — вспомнила, и тень усмешки промелькнула, мертвая, по мертвому лицу.
Заходил и Тута. Говорил о скором отъезде в Египет, спросил ее, может ли она ехать с ним.
— Не знаю, может быть, и могу, — ответила так равнодушно, что сама удивилась; вспомнила, как намедни протягивала руки к кораблю, уходившему в море: теперь уже ехать в Египет незачем.
Когда Тута произнес имя Ахенатона, что-то в лице ее дрогнуло, но тотчас же опять застыло, умерло.
Тута ушел, опечаленный: предчувствовал, что Дио плясунья, жемчужина Царства Морей, чудесный дар царю Египта, потеряна.
В сумерки пришел Таму, постучался в дверь со двора. Открыла Зенра, но не впустила его, пошла сначала спросить, можно ли.
— Нельзя, нельзя! Не пускай! — вскрикнула Дио, как будто испугавшись. Но, когда уже Зенра выходила из комнаты, вернула ее:
— Постой, няня…
И, подумав, сказала:
— Пусть войдет.
Страшно ей было увидеть его после Горы; но сквозь страх смутно чудилось, что он ей нужен сейчас как никто: от него-то, может быть, и узнает, что надо сделать, чтобы умереть спокойно.
Таму вошел и, не здороваясь, молча, остановился поодаль. Дио тоже молчала. С Горы не виделись. Смотрели друг на друга пытливо, пристально.
— Здравствуй, Таму, — сказала она наконец. — Что же ты стоишь? Садись.
Он подошел и сел, выбрав из двух стульев тот, что подальше.
— Ну, говори, зачем пришел?
— Проститься. Завтра еду.
— Едешь, правда? Ведь уж в который раз!
— Да, все не мог. А теперь смогу.
— Почему теперь?
— Можно все говорить?
— Говори.
— Ты очень больна, Дио; больной всего не скажешь.
— Нет, говори все.
— И о ней можно?
— И о ней.
Поняла, что «о ней» — значит об Эойе.
Оба говорили как будто спокойно, и чем страшнее было то, о чем говорили, тем спокойнее; взвешивали каждое слово, чувствовали, что каждое может их спасти или погубить.
— Знаешь, кто убил Эойю? — спросил он, глядя ей прямо в глаза.
— Кто?
— Я. Не веришь?
— Нет.
— Посмотри мне в глаза. Разве так лгут?
Посмотрела, закрыла лицо руками, опустилась на ложе и лежала долго, тихо, как мертвая. Потом отвела руки от лица, привстала и спросила:
— Как ты ее?.. — Не могла выговорить: «убил».
— Не я сам, а другие, — ответил он.
— Кто?
— Все равно. Кто-то спросил: «убить?» и я сказал: «убей». Значит убил.
— Кинир? — догадалась она. — Как же он это сделал?
— Подкупил бычников, чтобы опоили быка.
— Зачем ты ее?.. — опять не договорила.
— Чтобы снять чару. Убийца сказал, что если Эойя умрет, чара снимется с тебя, и ты меня полюбишь.
— И ты поверил?
— Не знаю. Может быть, и поверил.
— А теперь?
— Теперь вижу, что вышло не так: не ты меня полюбила, а я тебя разлюбил. Но все равно, чара снята.
— А ты знал, что если ее убьешь, то и меня?
— Я об этом не думал. А если б и думал, надо было выбрать: себя убить или тебя. Я выбрал…
Остановился, взвесил и кончил:
— Выбрал тебя. Пойми же, Дио, я не для того пришел, чтобы просить прощенья. Я знаю, ты меня простить не можешь. Три раза прощала: в первый раз, в пещере, когда я хотел тебя осрамить; второй — на берегу, когда ты купалась с Эойей; и третий — на Горе, когда радела с фиадами. А четвертый — не простишь. Для того-то я и убил, чтобы не могла простить.
— Зачем же пришел?
— Чтобы ты знала все и не лгала. Если не любишь, ненавидь, но не прощай, не лги!
Дио ответила не сразу, как будто опять глубоко задумалась.
— Нет, Таму, — прошептала, наконец, чуть слышно, — ты меня не разлюбишь. Если б разлюбил, не пришел бы.
— Не знаю. Может быть, и не пришел бы, — тоже как будто задумался он. — Но вот завтра уеду и уже никогда не вернусь. Был мертв и ожил; погибал и спасся, как пес сидел на цепи и цепь разорвал. Свободен, свободен, свободен! И, если бы снова надо было убить, убил бы снова…
— Нет, Таму, мы никогда… — начала она опять, остановилась, тоже, как он, взвесила и кончила:
— Мы никогда не разлюбим друг друга! Так невозможны, нелепы, похожи на «дважды два пять» были эти слова, что он не поверил ушам своим. Смеркалось. Он уже почти не видел лица ее. Вдруг послышалось ему, что она тихонько плачет и шепчет.
— Таму, поди сюда!
Сама не знала, что с нею, как будто не она, а кто-то другой возопил из сердца ее: «Мать, помоги!» и вдруг чьи-то сильные руки протянулись к ней и подняли ее, как ребенка подымают руки матери. Развязался удушающий узел на горле — судорога плача без слез, — и слезы хлынули.
— Таму, поди сюда!
Он подошел.
— Наклонись. Еще, еще. Вот так…
Приподнялась, схватила обеими руками голову его и молча поцеловала в лоб. Когда отпустила его, он отошел, шатаясь, прислонился головой к одному из столбов очага и долго стоял так, не двигаясь. Потом вернулся к ней и спросил со своей всегдашней, тяжелой, точно каменной, усмешкой:
— Что это значит? «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром» — так, что ли? — вспомнил слова бога Таммуза, начертанные на клинописной скрижали незапамятной древности.
— Так, брат мой, так! «Тому, кто сделал зло тебе, плати добром», — повторила она с тихим восторгом и ужасом. — Кто это сказал?
Он вдруг перестал усмехаться, побледнел, сжал кулаки и поднял их над головой:
— Тот, из-за Кого мир погибает — лжец, убийца, диавол, будь Он проклят.
— Таму, брат мой, зачем проклинаешь Того, Кого любишь?
— Его люблю?
— Его. А ты не знал?.. Погоди, скоро узнаешь…
Она опустилась на ложе, закрыла глаза и зашептала уже невнятно, как сквозь сон:
— Ну, ступай, а я отдохну. Очень устала… Завтра не уезжай, подожди. Если буду жива, скажу, что надо делать, а если умру, узнаешь сам… Подождешь?
Он ничего не ответил, неуклюже, медленно, грузно зашевелился, сгорбился, как под навалившейся тяжестью, и вышел из комнаты.
Лицо его было так страшно, что Зенра, увидев его, побежала узнать, что случилось. Заглянула в комнату к Дио, вошла на цыпочках, подкралась к ложу, наклонилась и увидела, что она глубоко спит.
Снилось ей, будто идет она с Таму глухой тропинкой в дремучем лесу на Иде горе, как в тот день, когда он спас ее от вепря. Сосны шумят, как море; падает мокрый снег хлопьями; розовеет цвет миндаля над снегом, в густеющих сумерках. «Бога заклать, бога заклать, вот что надо сделать!» — говорит ей Таму. А снежные хлопья падают; вьется вьюга, завивается в круги Лабиринта безысходного, и ревет в нем ревом голодным бог-зверь. «Зверя заклать, зверя заклать, вот что надо сделать!» — говорит уже не Таму, а кто-то другой. «Кто это? Кто это»? И вдруг узнала кто: царь Египта, Ахенатон.
Проснулась, но сон как будто продолжался наяву: услышала голодный рев зверя — гул подземных громов. Как от проезжавшей исполинской, нагруженной камнями, телеги, стены дома задрожали; висевший на стене медный щит зазвенел; два бронзовых кувшина, соприкасавшихся — сосуды возлияний в часовенке — задребезжали; столбы очага заскрипели; где-то посыпалась штукатурка с потолка; собака во дворе завыла, овцы в овчарне заблеяли; и ужасом черным чернота ночи пахнула ей в лицо.
Но не ужаснулась: с детства привыкла к этим подземным гулам; только привстала на ложе, обернулась к часовенке и прошептала:
— Всех детей твоих, Матерь, помилуй, спаси, сохрани!
Ждала, чем это кончится. Помнила, как помнили все кэратийцы, то, что было четыре века назад: тогда земля тряслась так, что люди думали, пришел конец мира: «Ужо провалитесь все в преисподнюю!»
«Конец или не конец?» — ждала она спокойно. Снова проехала телега с камнями — прокатились гулы, но глуше, все глуше — и замерли. Наступила тишина. Петух где-то пропел: «еще не конец!»
Дио опять легла и заснула, так же глубоко, как давеча. Солнце уже падало на стену радужным зайчиком, когда проснулась, еще больная, слабая, но уже другая: что-то изменилось в лице ее так, что Зенра, взглянув на нее, подумала: «будет жива!»