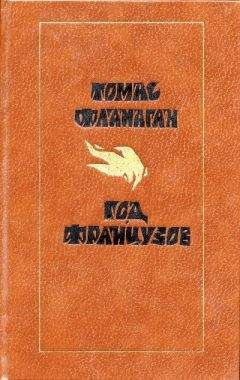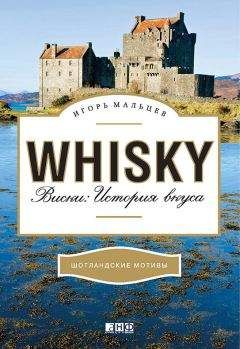Александр Круглов - Сосунок
Ваня не знал немецкие танки (впрочем, как не знал он и наши). Слышал только: "тэ-два", "тэ-три", "тэ-четыре"… И тот, что горел, был, наверное, "тэшкой". Да и тот, наверное, что на них повернул, — угловатый, высокий, башня со скошенным куцым затылком; бурый, полосато окрашенный весь; кресты — белое в черных штришках-уголках — по бокам. Этот, правда, сперва несся вдоль рощицы значительно дальше подбитого и чуть-чуть забирая правей. А тут как крутанет тупым своим рылом на них, на орудие, на расчет и пошел, пошел стальной грудью к темневшим на голом поле кустам. Чего-то ища уже там. Пушку, конечно… Чего же еще? Что стреляла оттуда, что уже напарника его подпалила. Найдет — и как плюнет по ней из своей утробы раскаленным металлом.
Но Ваня верил уже. Верил пушке чужой. Что надежна она… Что она — молодцом. Что оси в ней сверены и сведены. Что лучше — не надо! И пальцы, штурвалы теперь были Ване послушны. Чудесным казался и чужой незнакомый прицел. И бронебойные чужие снаряды. И Ваня вертел, вертел… Кто быстрей: он или танк… Вот он — весь на виду. Перед ним. А его, Ваню, их пушку ему еще не видать. Их в кустах еще надо найти. А Ваня уже посадил танк на крест. И снаряд в каморе уже. Слышал, как клацнул. Молодчина Пацан, моментально поднес, а инженер загнал его сразу в патронник. И все ждут теперь. Ждут, когда Ваня нажмет на рычаг. И Ваня нажал…
…Снаряды и мины больше вокруг не рвались. Огонь немцы перенесли в глубь нашей обороны. А здесь, где еще недавно все рвалось и было затянуто дымом и пылью, стало светлее и тише. И видно было, как за прошедшими мимо танками и поравнявшимися с зарослями какими-то колесногусеничными машинами уже шли в полный рост пешие немцы — в черном все, в касках, с автоматами на груди. Иные пытались бежать. Спотыкались. Падали. Поднимались опять. И упрямо шли дальше. И при этом стреляли уже и что-то орали. Ване даже показалось, что не просто орали, а пели.
"Неужто пьяные?" — показалось ему. И эта догадка слегка даже отрезвила его самого и почему-то еще больше придала ему сил. Были немцы и в машинах. Из-за брони торчали их головы в касках. И иные уже стали выпрыгивать.
И чувствуя себя теперь, после двух уничтоженных танков, сильным, уверенным, самым важным, значительным здесь — у трофейного чужого орудия, Ваня стал ждать, что прикажет ему инженер. По всему чувствовалось, что он, Ваня, теперь здесь всех важней, он командир. И чуть визгливо, запальчиво крикнул:
— Бронебойным!
Пацан был в восторге. То озорное, что всегда так и рвалось из него, постоянно бродило в нем бесом, сейчас вовсю разошлось.
— Есть бронебойным! — отозвался лихо, весело И ринулся к ящикам со снарядами. Вырвал один. И уже нес назад. Что-то задорно крича, передал инженеру.
И Голоколосский… Вот уж не ждал не гадал… Юнец, сосунок, молоко на губах… А вот же… Это же надо! Повернулось-то как!
А тут еще забухали "пэтээры"- и слева, и справа. Во всю начала по фашистам и пехота наша смалить — из винтовок, из автоматов. И пулеметы за дело взялись. Стали рваться повсюду гранаты.
И вдруг одна машина — дальняя, за той, что карабкалась по камням ближе к кустам, запылала. Должно, "пэтээры" зажигательной пулей ее подожгли. И, видя то, уже выцелив такую же машину поближе, и Ваня выстрелил.
Из передней части колесно-гусеничной металлической твари вырвался клубами пар, в стороны, вверх полетели какие-то черные, будто живые, сочившиеся чем-то жидким, липким, горячим обломки. Из кузова на землю посыпались немцы. Часть залегла. И давай в сторону орудия из "шмайссеров" поливать. Пули по щиту забарабанили, завизжали над головами.
Ваня пригнулся, сжался невольно. Но заставил себя снова приклеиться глазом к прицелу.
— Осколочный! — гаркнул. — Живее, живее! — Никогда в такой ситуации не был. Никто его не учил. А сообразил. Моментально сообразил, что надо делать. И пока Пацан на четвереньках почти бежал к ящикам, а потом, возвратись, таким же манером подавал снаряд инженеру, а тот загонял его в ствол, Ваня уже выискивал кучу фашистов, какая поближе, побольше и поплотней.
И вдруг его как булыжником, как кувалдой со всего размаха по голове. Так и отбросило от окуляра, шею чуть не сломало. Развернуло резко вправо, назад. И как телегой прогромыхало по обнаженным мозгам. Вроде вспышка сверкнула в глазах, потом потемнело, заходили в них цветные круги. На мгновение ослеп и оглох. Не понял сперва ничего. Насильно распялил пошире, насколько возможно, глаза. Вроде снова стал видеть. Свет опять ударил в глаза. Прижмурил их малость. Прищурился. Припал к окуляру опять. Но что-то все же мешало смотреть. Не увидел креста. Вскинул руку. Затер, затер правый глаз. И не понял сперва… Рука повлажнела. Как горячим ее обожгло. Взглянул на нее. И обомлел. Она была красная вся. Не поверил сперва. Пощупал. Лизнул осторожно. Как бывало, мальчишкой… Порежет когда… Начнет зализывать рану. Так и теперь. Липко, солоно… Господи, кажется, кровь! Со лба через глаз по щеке и ниже, ниже за подбородок, по шее, на грудь, на живот теплым медленным ручейком текла его кровь.
Ваня вскрикнул. Вскочил, обо всем позабыв. Взмахнул безотчетно руками. И тут снова его… Как обухом топора. Но теперь по руке. И влево швырнуло. Едва не упал. Кроме удара ничего сперва не почувствовал. Ни чуточки боли. Только, снова резкий, мощный, развернувший его на пол-оборота удар. Хотел ухватиться за щит — правой, еще целой рукой. Чтоб удержаться, чтоб не упасть… И снова… Удар… Теперь развернуло направо. Ваня вскрикнул невольно. Невольно присел. А когда смог на руки взглянуть, из обеих била алая, яркая, паром дымившая кровь.
— Что это? — спросил глупо, неожиданно он. — Меня, кажется, ранило? — не то заявил, не то выразил сомнение он. И, растерянно оглянувшись, снова стал пораженно смотреть на залитые кровью ладони.
Пацан к нему кинулся первым.
— Гляди, — удивленно обратился он к инженеру, — правда, ранило Ваньку.
Инженер, хмурясь, по-прежнему прячась от пуль, что с грохотом бились и бились о щит, оставил на миг рукоятку замка, приподнялся слегка, потянулся к наводчику. И только потянулся через замок, чтобы раны его осмотреть, быть может, чем-то помочь, охнул вдруг, вскинулся. Успел как-то жалко, помышиному пискнуть. И надломился вдруг. И повалился на замок. С него на станину. И под нее, на каменистую землю, дергаясь, корчась, хрипя. Враз побелев как полотно.
— Убили, убили! — не своим, перекошенным голосом взвился Пацан. Всегда такой шальной и отчаянный, он сейчас потрясение схватился за голову и почти бабьи, истошно орал:- Инженера убили! Ой, скорее, скорее сюда!
Пули еще барабанили по щиту, когда Пацан и оба кавказца ползком, пригибаясь, вытаскивали Игоря Герасимовича из-под станины, из-за щита. А Ваня за ними, пригнувшись, на корточках сам.
— Эх, беда! — высунулся из-за куста, из ячейки, посочувствовал бас — плотный, невысокий, оказалось, с глазами навыкате, лет сорока. — Сюда давайте ecn, сюда, — выполз он на прогалину. — И за мной, на нашу тропу.
Ваня, хотя задело и голову, и обе руки (но, похоже, нестрашно) сам мог идти. А вот у Голоколосского пуля сквозь грудь, между ребер, прошла. Он был очень плох. На руках вытащили его из колючей поросли, отнесли подальше от передка. Уложили в воронку от бомбы — глубокую, крутую, всю запекшуюся от сгоревшего тола.
Индивидуальных пакетов нашли только два. Их не хватило. Пацан снял с себя нижнюю, пропотевшую сквозь, ставшую почти черной рубаху. Ее располосовали. Пустили полосы в ход — сверху жидких, заалевших сразу бинтов, перетянули затем грудь поясными ремнями.
Немцы, видать, напирали. Стрельба там стояла — щелочки не было пробиться постороннему звуку между пальбой. Самый бы раз поддержать наших орудийным огнем. А те, кто уцелел из расчета — Пацан и кавказцы, — были заняты ранеными. И только перевязали их, сразу побежали обратно, на "огневую", в кусты, велев Ване присматривать за инженером. И, поддерживая пе ребитую руку другой, задетой, видать, послабее, он сидел в воронке у его изголовья и смотрел, как тот пускает носом и ртом кровавые пузыри, задыхается и дрожит весь мелко, зябко, неудержимо, и думал с ужасом, что заряжающий вот-вот, наверно, умрет и он останется с ним в воронке один.
Раны стали болеть. Особенно на левой руке. Она от локтя до пальцев вздулась вся, налилась, стала желтеть. Задетая пулей, гудела все сильнее и голова. И, теперь страдая уже и терпя, Ваня настороженно и испуганно не сводил слезящихся, беспрестанно мигающих глаз со своих сочившихся кровью бинтов и грязных, просолившихся Яшкиным потом, трухлявых, замусоленных тря пок. Щупал время от времени и липкую непрочную повязку на лбу. Пуля, попав в щитовое окно, к счастью, лишь стесала кожу и лобную кость. Еще миллиметр, другой — и вонзилась бы в мозг. И все — Вани б теперь уже не было. За два-то дня и уже столько возможных смертей! Уже пролита кровь!
Все его прежние детские раны — все эти царапины, порезы и ссадины не шли ни в какое сравнение с этой его первой солдатской боевой кровью. Эта была какая-то особенная, совершенно иная. Будто тянула за собой всю его жизнь, со всем его прошлым, настоящим и будущим, оставляла на жизни неизгладимый, незабываемый след. И, изорванный пулями, в крови весь, в бинтах, с ноющей болью, следя напряженно за инженером, страшась за него, за себя, настороженно слушая бушевавший поблизости бой, он, весь такой обнаженный, нервом, клеточкой каждой, всей своей исстрадавшейся, воспален ной, но уже расслаблявшейся понемногу душой так и ловил, так и впитывал, пропускал через себя этот огромный, взбаламученный, будто разлетавшийся от него во все стороны страшный и непостижимо удивительный мир. И никогда так остро не ощущал, что он, Ваня, частица его, его ничтожная живая былинка и в то же время словно бы его сердцевина, средство и цель. И чудилось… Очень отчетливо, ясно чудилось Ване, что скоро, очень скоро, вот-вот начнется для него какая-то иная, новая, незнакомая жизнь.