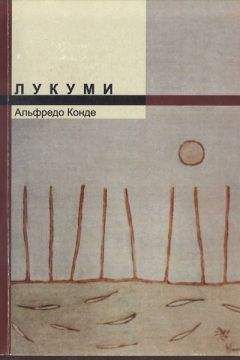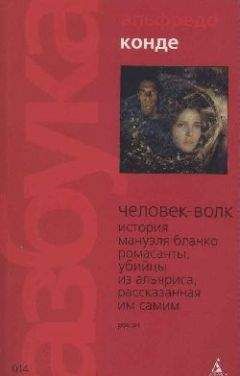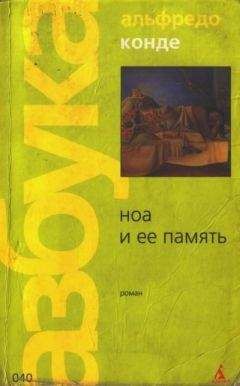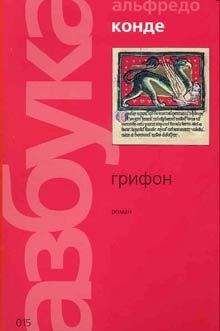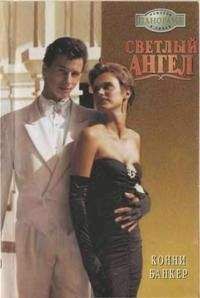Альфредо Конде - Синий кобальт: Возможная история жизни маркиза Саргаделоса
Перед ужином Антонио позвал еще двоих из сопровождавших его и велел им отправиться в Рибадео и заняться там подготовкой домика, что стоял рядом с его дворцом, ближе к ярмарочной площади, неподалеку от городских ворот, как раз между площадью, домами идальго и его дворцом. Он хотел, чтобы дом подготовили, с тем чтобы в нем можно было должным образом разместиться. Он уже предусмотрел, кто будет там жить.
— Вы выйдете завтра на рассвете, и никому об этом ни слова.
Затем они с Шосефом поужинали, снова вдвоем, и выпили во здравие всего того, что до этого времени их связывало. Шосеф продолжал видеть в Антонио все того же ребенка, который вызывал у него чувства, что всегда пробуждаются в старшем брате при появлении младшего, и он с гордостью наблюдал склонность своего родственника к обильной пище, к задушевным беседам без обиняков, без каких-либо тайн, и ему было приятно чувствовать, что его любит этот человек, которого он считал как бы плодом своего воспитания, хотя ему никогда не доводилось задумываться, в чем же оно, собственно, состояло. Все же на этот раз они вели разговоры не слишком долго; в глубине души оба уже устали, ведь долгая разлука сделала свое дело, оставив им, как и всем, кто не видится годами, совсем немного тем для беседы; как бы это ни связывало людей, они вскоре исчерпываются, порождая затем невыносимую тишину. Братья встали и попрощались до следующего утра.
Поднявшись со своей скамьи, Антонио знал, что Лусинда уже ждет его в доме, и направился к ней, забыв о горечи, которую принес ему сегодняшний день. Ночью в какой-то миг она признается ему, что знает об отказе некоторых из приглашенных, и он, сам не зная как, вдруг начнет оправдываться перед Лусиндой в различных злоупотреблениях, которые он, вполне возможно, до этого совершил. Но, признаваясь в них, он начинал отдавать себе отчет в том, что не раскаивается, а, напротив, лишь утверждается в необходимости всего того, что привело его сюда. И в этом он ей тоже признался. Тогда она принялась ласкать его.
В какое-то мгновение он ждал, чтобы она попросила увезти ее с собой, но этого не произошло. Тогда он не смог больше терпеть, чтобы все развивалось само по себе.
— Поехали со мной, — вдруг сказал он ей.
Тогда она крепко прижалась к нему и ничего не ответила, но он понял, что она приняла предложение.
В конце обеда он встал и объявил о своих дальнейших планах. Пока он говорил, он постепенно обнаруживал, что все мысли, что до сих пор были сокрыты, теперь выстраивались с обычной непринужденностью и последовательностью. Так уже случалось и раньше, когда он устроил школу и ему приходилось учиться самому, уча других, объясняя другим, что было поразительно для такого молчаливого человека, как он. Теперь происходило то же самое, и, произнося речь, он решал, какие действия предпримет, дабы добиться полного восстановления и даже расширения всего, что было разрушено. Новые планы у него в голове приобретали реальные очертания, и одновременно он восстанавливал в памяти старые проекты, которые вскоре собирался претворить в действительность. Для этого он и вернулся в Оскос, чтобы вновь почерпнуть здесь ту силу, что двигала им на протяжении всей жизни. Он понимал это теперь, говоря перед своими земляками. То, что он считал бегством, по-настоящему оказалось путешествием внутрь самого себя. И теперь он уже прибыл к месту назначения. Теперь он мог возвращаться и вновь обрести свое место в мире. Он испытал такой восторг, что, не сомневаясь, приписал своей интуиции тот факт, что перенес отъезд со вчерашнего дня, словно что-то подсказало ему, что именно по завершении обеда, перед собранием именитых граждан, перед патриархами его племени, свершится катарсис, в поисках которого, движимый интуицией, он и прибыл сюда, дабы вновь вернуться в мир, пройдя через сей возрождающий ритуал.
Когда обед был закончен, он выехал в сторону Вилановы, намереваясь переночевать в монастыре. Весна была в самом разгаре, день длился долго, а посему он надеялся прибыть туда еще засветло. Перед отъездом он обнял Шосефа после того, как по очереди попрощался с каждым из сотрапезников, пообещав внимательно отнестись ко всем их просьбам и нуждам и уверив их, что Саргаделос будет процветать, как никогда раньше. Он чувствовал себя сильным, был уверен в себе и знал, что сможет все восстановить.
Лусинда ехала с ним. За ними в повозке, в специальном футляре, сделанном ex professo[36], упакованная в парусину из Неды, следовала картина, принадлежащая Антонио Раймундо Ибаньесу Гастону де Исаба-и-Вальдесу. Человек, запечатленный на ней, больше не пытался отыскать себя в своем портрете с того самого момента, когда решил не оставлять его спрятанным в укромном уголке за очагом.
Глава вторая
Едва они покинули Феррейрелу, как пошел сильный дождь. Он был мелкий, но частый и настойчивый и стал несколько ослабевать лишь по мере продвижения путешественников по горным тропам, петлявшим у самого края бездны, верхом на местных лошадках, маленьких и крепких, надежных и послушных лошадках, ступавших мелким, но твердым шагом по черным скользким камням.
Они ехали в направлении монастыря Виланова-де-Оскос, и пока лошади брели медленным шагом, дождь постепенно ослабевал, превращаясь в густой, почти непроницаемый туман. В какое-то мгновение вершина хребта Рокосто, внезапно возникшая из этого тумана, показалась им спиной всплывшего кита, словно парящего над бесконечностью.
Продвижение в тумане подчас оказывается весьма приятным приключением, ибо позволяет упражняться в искусстве угадывать очертания, ступать как можно тверже и вновь испытать радость сомнения. Жизнь подобна густому туману, нежному облаку или легкой дымке, но она всегда смутна и туманна. После Карадуше, сразу за домом Ломбардеро, до того как начинается спуск к Балии, путник угадывает очертания более высоких гор и в просветах низких рваных облаков обнаруживает там, внизу, долину Баррейры, окружающую горную цепь, и ему даже может показаться, будто он слышит монотонные удары кузнечного молота, эхо которых тонет в тумане, или видит маленькую звонницу часовни Милагрос, слегка возвышающуюся над округой, но все это лишь иллюзия, позволяющая ему продолжить свой путь.
Река Балиа осталась уже позади, как и родовое имение Ломбардиа, а также Барсиа, утес Оурейра, скалистые гребни, пометившие, подобно застарелым шрамам, пологие склоны гор. Все осталось позади. Речные запруды, церквушка Святой Эуфемии — все, что когда-то имело такое значение для Антонио Ибаньеса, приобретает теперь противоположный смысл: вот оно, чудо низких облаков, которым случилось окутать нас целиком. Густой туман не позволяет ему ничего как следует разглядеть, так что все его взгляды обращены внутрь и направлены на поиски глаз, что так нужны ему, чтобы брести сквозь этот плотный туман. Глаза, изображенные Гойей, завернутые в парусину, сотрясаются в такт толчкам повозки, таким сильным, что холст, на котором запечатлены эти глаза, вот-вот может выскочить из рамы. Но, даже не ведая о тех мытарствах, что претерпевает взгляд на портрете, Антонио Ибаньес устремляет свой взор туда, куда ему хочется: он углубляется в воспоминания своего детства, будто катится вниз по склону горы; поэтому возможность вспомнить взгляд, изображенный на портрете, проходит незамеченной; но это позволяет его собственным воспоминаниям, еще живым и ярким после стольких лет отсутствия, вести его в густом тумане, не оставляя места ни колебаниям, ни тем мучительным сомнениям, возникновению которых он же сам бессознательно и способствует; он как будто не хочет дать передышки ни лошадям, ни потоку собственных мыслей.
Неудача с приглашением на обед обескуражила его даже больше, если это было возможно, чем четыре тысячи жителей из семнадцати приходов, восставших против него и разрушивших литейную фабрику в Саргаделосе. Мятеж, подготовленный узким кругом церковников и идальго, поднятый крестьянами и вызванный его манерой властвовать, имел какое-то приемлемое для него объяснение. Осуществление власти безжалостным и не знающим снисхождения образом порождает риск, на который он шел с самого начала, и в конечном итоге бунт был ответом, столкновением двух способов восприятия жизни, двух возможностей ее организации. Но нежелание прийти к нему людей, которых он учил читать и писать, с которыми играл в детстве, и стариков, внушавших ему восхищение и огромное уважение, было страшным оскорблением, и забыть о таком совсем не просто. Он простил бы и даже понял такое пренебрежение, если бы теперь переживал самые свои лучшие и успешные времена, ибо тогда это подразумевало бы вызов, мужественное утверждение своей позиции, противостояние могущественному человеку. Но ему было прекрасно известно, что причина происшедшего крылась в его действительной или мнимой слабости и что никто из оскорбивших не осмелился бы пойти на это всего неделей раньше. И это превращало все в страшное оскорбление, позор и подлость, в прах разбивавшую все усилия, самый смысл его жизни. И потому его сердце билось исполненное презрения.