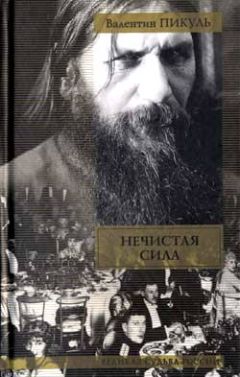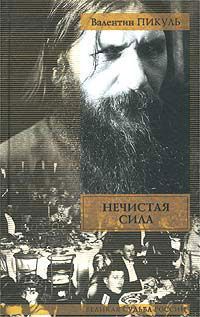Валентин Пикуль - Нечистая сила. Том 1
– Мазурик он! Может, исправнику нажалиться мне?
Дошло это до Гришки, и он Белову грубил бесстрашно:
– Ты, коли медаль нацепил на шею, так ко мне не совайся. Я человек божий и завсегда могу уйти в странники…
Гришка часто уходил из села, пропадая в долгих отлучках, а потом являлся, изможденный и мрачный, мутные глаза его скользко плавали в ободах синевы; был он тих после богомолий, посылал свою Парашку до лавки с запискою собственного сочинения: «Милостив Гасудар гаспатин Лавашник буть любезна Силетку мине по жирне и по толоче уважаюсчи тебе грегорий».
Покровский лавочник спрашивал Парашку:
– Тебе, Федоровна, какую – с икрой или с молоками?
Иногда же брал рубль, ставя его ребром на прилавке.
– Эво! – говорил, подмигивая. – Красная цена тебе… На сеновал-то придешь ли? Разведем мы икру с молоками.
– Да будет вам, – отвечала Парашка. – Я ему про селедку, а он мне про это самое. Эдак-то и до греха недалече. Заворачивай ту, котора с молокой… Когда на сеновал-то приходить мне?
Была она, под стать мужу, бабой скверной. Под самый XX век пошли у Распутиных дети – сын Митенька да две дщерицы, Варька с Матрешкой, – сопливые, нечесаные, зимой они по нужде босые по сугробам гоняли. «Распутинские, – говорили на селе, – живучие. Их и оглоблей не проймешь… Ишь, заливаются – голосистые!»
***Без паспорта, без денег, даже без лаптей отваживался Гришка шляться далеко. Когда отмечались саровские торжества, он долго болтался в «нетях», вернулся и брякнул мужикам в разговоре:
– А я вот царицу повидал, нагишом… быдто Еву!
– Врешь ты все, – не верили ему.
Гришка рассказал, что в Сарове, когда императрица в пруду купалась, он в кустах с одной монашкой радел и все видел.
– Ну и кык она? – спрашивали. – Царицка-то у нас?
– Да в темноте они, бабы, все одинакие. Видел я тока, что больно мосласта, нежирная… Я бы и лучшее ее разглядел, да мне монашка моя мешала: «Радей дале, говорит, коли уж на меня взобрался, так на чужих баб не разевайся…»
Пока же он там болтался по разным святым местам, Парашка его вконец истрепалась. Путалась исключительно с «аристократами» – с писарями, сотскими, лавочниками. Когда Гришке указывали на непотребство жены, он только отмахивался небрежно:
– Жалеть ли добра такого? От бабы не убудет… Это вы, дикари, закосматели тута, даже кофию ни разу не пробовали…
– А ты рази кофий пил?
– А как же! Я вот тока господского коньяка не пил. Но погоди, я и до энтого коньяка, даст бог, ишо доберусь…
Вскоре было примечено, что после долгих отлучек по богомольям у Гришки начинали денежки шевелиться. Он даже лошадь с шарабаном купил, стал носить высокий черный цилиндр, какие носили тогда провинциальные священники. «С чего бы такая роскошь?»
– Не убил ли кого? – толковали мужики. – С Гришки ведь всякое станется. А со странствий добра не спроворишь…
Вдруг прикатила в Покровское на тройке с бубенцами вдовая миллионерша Башмакова, надарила Парашке разных платьев, щедро оделила детвору Гришки гостинцами. Распутин выстроил на отшибе села новую баню с каменкой, водил туда миллионершу по вечерам, и там они знойно парились. «Греха не пужайся, – говорил Гришка богачихе. – Потому как всякий грех я на себя забираю, и пред богом тебе виноватой стоять не придется. С богом я и сам разберусь!..» Башмакова растрезвонила по свету, что вот, мол, апостол какой объявился – не только согрешит, но еще и от греха очистит. Понаехали из города и другие паскудницы – тоже усердно парились, а из бани Гришку, вымытого до изнеможения, вели под локотки – словно гуся важного! «Осторожнее, старец: здесь крапива, – щебетали барыни. – Ах, устал наш старец…» (а старцу-то и сорока лет еще не исполнилось!). В голове Распутина, под буйными зарослями волос, вечно спутанных в жесткий колтун, была адская мешанина отбросов чужих мыслей. Все, что вынес он в юности из радикальной земской больницы, чего набрался в трактирах и конокрадских притонах, что впитал в себя на хлыстовских радениях, – все это, вместе взятое, образовало в башке его ужасный шурум-бурум… Одну лишь истину разумел он крепко и жадно:
– Чего это я стану ждать царствия небесного? На што мне облака да тучи? Я на земле желаю жить по-царски. Чтобы бабы плясали! Чтоб вино лилось! Чтобы самовары кипели! Чтобы сапоги у меня скрипели! Чтобы рубахи вышиты! Чтоб… всем вам треснуть!
Безжалостный к чужой жизни, харкая в самое святое людей, Распутин скоро совсем распоясался. Казалось, ему доставляло удовольствие надругаться над извечным целомудрием крестьянского мира, и напрасно бабы пытались увещевать его жену:
– Глаза-то твои бесстыжие видят ли, что деется? Ведь, чай, не чужая… жена ему! Нешто самой-то тебе не противно?
Парашку теперь было не узнать: развалив по подоконнику тяжелину грудей, барыней сидела в окошке избы, сама в шелку, ела пастилу голубую и розовую, в усладу себе щелкала орешками.
– А чо мне? – отвечала с игривостью. – Кажинный мужчиночка должен на хлеб супружнице заработать. А уж как сработал – меня не касаемо.
А вскоре прибыл новый священник – отец Николай Ильин, сосланный Синодом в Сибирь, ибо, будучи человеком честным, он активно выступал против попа Гапона и его влияния на рабочих. Искренно желая отвратить Гришку от разврата хлыстовского, Ильин стал по вечерам заманивать его к себе на чашку чая. Вел с Распутиным «душеспасительные» беседы, уговаривая вернуться на путь истины. Знакомство пошло Гришке на пользу – поднабрался от попа словечек церковных, ловко молол о мощах и разных чудесах. Ранее манкируя церковью, он вдруг сделался самым усердным прихожанином, подолгу – напоказ! – постился. Не вера, а страх двигал Распутина в официальные храмы: боялся он, как бы за хлыстовщину не упекли его в края, куда и ворон костей не заносит… Не ко времени опять нагрянула в Покровское на тройке миллионерша Башмакова (уже рехнувшаяся). Зонтиком переколотила все стекла в окошках избы Распутина, призывала истошно:
– Гришуня, не покинь! Выйди, голубочек ясный…
Распутин, зевая, вышел. Взял дуру старую за глотку, повалил наземь. Прижал коленом, чтоб не больно-то рыпалась, долго и молча совал кулаком в сдобную морду. Звеня бубенцами и рыдая, мадам Башмакова отъехала… Когда же мужики засомневались, можно ли эдаким манером обращаться с миллионершей, Гришка оправил за поясок выдернутую из порток рубаху и отвечал рассеянно:
– Хто? Она? Миллионщица? Так все едино – баба…
Истомленный развратом и церковными бдениями, он заметно похудел, синяки под глазами расширились. Случилось нечто странное: с лопатой ушел Распутин за околицу, выкопал на опушке леса глубокую яму, будто колодец, прыгнул на дно ямы и заявил оттуда:
– Бес меня вконец истомил… Сами видите – отселе и кроту не выбраться. Теперича здеся поститься стану. А вы мне за это силетку пожирней да потолсче кидайте.
Высидел он в яме несколько дней, заедая свое одиночество жирной и толстой селедкой (когда с икрой, а когда попадалась и с молокою). Но однажды пришли односельчане на опушку, дабы навестить своего «подвижника», а там, в этой яме, Гришка уже не один – рядом с ним сидят на дне и три городские дамочки.
– А греха не избежать, – провозгласил из ямы Распутин. – Почти уже спасся, да энти дуры скакнули сверху, быдто лягухи поганые. Всю святость, какая была, поломали, стервы. Вынимайте меня!
***Не сразу до сибирской глухомани долетели отзвуки революции, а потом пошли разные кривотолки, будто скоро будет на Руси собрана народная Дума, чтобы думу о народе только и думать.
– Расплясались! – говорил Распутин. – А на кой хрен вся эта Дума нашему брату? Быдто в кошки-мышки с нами играются…
Ох, не спеши, Григорий Ефимович!
Именно предвыборная кампания по выдвижению «кандидатов из народа» и выпихнула Гришку на поверхность путаной русской жизни, хотя об этом казусе истории у нас мало кто знает.
14. Парламент на крови
Легче всего ругать царей за то, что они… цари! Но марксистская история не осуждает царей за их происхождение. Мы судим не монархов, а только их поступки…
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя Девятым января!
Николай II имел в быту репутацию un charmeur (то есть очарователя). Спокойными глазами глянем на него как бы со стороны… Милый и деликатный полковник, умеющий, когда это надо, скромно постоять в сторонке. Предложит вам сесть, справится о здоровье, раскроет портсигар и скажет: «Пра-ашу вас…» Он умел производить впечатление мягкого и доброго человека, а скучноватое лицо императора оживляли глубокие материнские глаза («глаза газели»). Военным людям царь импонировал умением держаться на парадах. В его щуплом теле таился геликон удивительной мощи, и трубой своего голоса он свободно покрывал громадные площади, заставленные сплошь войсками…