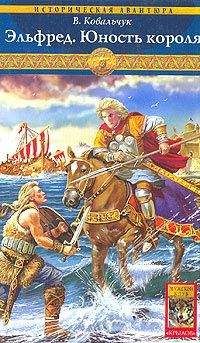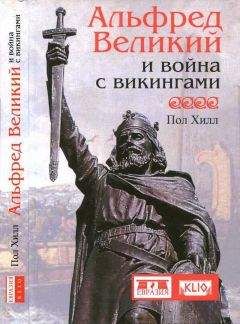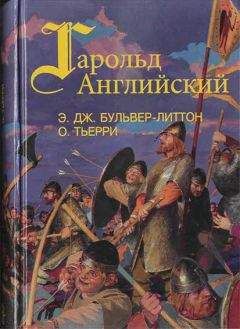Борис Дедюхин - Василий I. Книга первая
Шли ратники, шло ополчение. Объединились в сотни и тысячи огородники — умельцы городить заборы и частоколы, ремественники — досужие горшки из глины лепить, ложки из липовых чурок резать, выделывать юфть для сапог, женские украшения из серебра отливать или потешные детские игрушки мастерить. Немало оратаев, привыкших иметь дело с сохой да лукошком, с житом, по своей воле явились. И монахи, тихие и послушные, вслед за Пересветом и Ослябей рясы свои поменяли на непривычные для их телес, куяки — кожаные без рукавов рубахи, на которые крепились железные чешуйки, но то могло им служить утешением, что в точно такие куяки облечены на иконах святые воители Георгий Победоносец да Дмитрий Солунский.
Пики, мечи, сабли, топоры, стрелы, ядра на ремнях, булавы и шестоперы. За плечами — тощенькие сидора, в которых пара запасных лаптей да чистое исподнее белье, чтобы было во что обрядить, если, не дай Бог, суждено будет сложить голову в жаркой сече. Но и то правда, что иные и одной пары лаптей не имели, босыми шли. А вместо кольчуг на мужиках домотканые холщовые рубахи с подолом до колен. Иные, стесняясь показать свою старую броню, прятали битые щитки под одеждой, иные сделали себе латы из невыделанных кабаньих шкур, а иные имели дощатую бронь. Кому и воевать нечем было — обыкновенные топоры к киям прилаживали. Но хотя топоры и, верно, обыкновенными, плотницкими были, однако у иных это была самая большая ценность в дому — на всю жизнь, а то и в расчете на детей и внуков делали: лезвие голубое, на опушке затейливая вязь, на щечках рисунки зверушек либо птиц.
Ни днем ни ночью не потухали горны в кузницах, вздыхали мехи, звенькали молотки — бронники и оружейники ковали латы, кольчуги, шлемы и пики.
Но ни один крестьянин не заказал себе орала, хотя близилось время поднимать зябь. Даже и гвоздей не ковали — каждым куском металла дорожили.
Среди московских ополченцев были и старики, шестой или даже седьмой десяток лет разменявшие, и подростки четырнадцати-пятнадцати лет, однако все это были люди, готовые воевать: занимаясь мирным трудом, все они с трехлетнего возраста обучались ратному делу.
Сформировавшиеся в сотни и тысячи, они занимались зажитием — собирали продовольствие на долгий поход, острили мечи и копья, чинили седла и колчаны.
Всех знахарей и лекарей-рудометов созвал Дмитрий Иванович — день и ночь укладывали они в торбы засушенные травы: белокудренник черный, лягушечник, браслину, змей-траву, могильник, горлюху. Больше всего брали зубника — от крови, жабника и заячьей капустки — от ран, волчьего лыка — от яда змеиного, что на жалах татарских стрел может быть. Состоявший при великокняжеском дворе латинский лекарь собрал отроков и учил их врачевать телесные язвы медом да прокипяченным маслом, перевязывать раны кровоточащие — быстро чтобы и целительно. А один знахарь пришел с березовым туеском, наполненным банной плесенью, которой, по его словам, можно залечить любую гнойную рану. Латинский лекарь с сомнением выслушал его, но прогонять не стал — авось и правда пригодится[16].
Возле церкви Ивана Предтечи устроился колдун — человек с внешностью такой, что, приснись он, непременно испугаешься и поймешь, что с нечистой силой он дело имеет: одна нога деревянная, оба глаза кривые, рот словно кровавая рана. Но к нему уже привыкли москвитяне, перед каждой бранью он объявляется. Молодые воины просили его предсказать судьбу похода, просили дать таких трав и снадобий, чтобы ни меч, ни стрела поганых не взяли бы. Колдун всем давал ладанки, в которых содержались маковые зернышки. Точно такие черные крошечки раздавал он два года назад. Не всех тогда спасли они, иные пали на берегу Вожи, но вера, что оружие нехристей бессильно против ладанок и заговоров колдуна и что павшие непременно воскреснут для новых битв против азиатских варваров, была столь сильна, что ратники уходили от чародея совершенно бесстрашными, готовыми на все, даже и на смерть.
Появился в кремле и еще один странный человек по имени Аверьян. Он называл себя «Сыном Божиим», «Новым Христом». На вопрос, сколько лет ему, отвечал: «По плоти мне тридцать три, а сколько духовных лет, то не ведаю — может, сто, может, вся тысяча, а может, и тысяча триста восемьдесят». Поп Герасим хотел сначала заточить Аверьян а в поруб как богохульника и еретика, но за него вступились его «апостолы» — двенадцать его приверженцев, которые все, как и он, изготовились для рати, прибыли в Москву при полном вооружении и одвуконь, чтобы стать под стяг великого князя Московского. Сам Аверьян сказал без большой печали и очень убежденно, что провидит свою смерть на поле брани, но прежде чем падет от ран кровавых, порубит мечом своим несчетное множество неверных агарян. После этих слов Герасим оставил его в покое, но сказал: «Падешь, нет ли на поле боя, все одно — в Москву не возвращайся, не смущай правоверных».
Пришедшие из других княжеств сотни, тысячи, десятки тысяч воинов и ополченцев располагались в ожидании похода по берегам Неглинной и в излучине Москвы-реки на Самсоновом лугу, в Лужникове — вплоть до стоявшего на горе села Воробьева. Тысячи костров разводились под многоведерными котлами, от которых тянулись над городом вкусные запахи стерляжьей ухи, охотничьего шулюма, гречневых да тленных каш. И отовсюду доносились песни и смех — в каждом полку были свои скоморохи, певцы и плясцы. Но не просто потешали они ополченцев — помочь и ободрить старались, заклинали:
Ух ты батюшко мой тугой лук,
Уж ты матушка калена стрела,
Не пади-ко, стрела, ты ни на воду,
Не пади-ко, стрела, ты ни на гору,
Не пади-ко, стрела, ты ни в сырой дуб,
Не стрели сизыих малыих голубов.
Обвернись, стрела, в груди татарские,
В татарские груди во царские,
А-й вырви-ко сердце со печенью
Добрым людишкам на сгляжение,
А-й старым старухам на роптание,
Черным воронам все на граянье,
А-й серым волкам юе на военье.
От сторожи с Тихой Сосны не было ни слуха ни духа. Решив, что храбрые юноши побиты, великий князь выслал новую разведку — крепких тоже оружников Климента Поленина, Ивана Святослава и Григория Судока, наказав им действовать проворнее, не томить Москву незнанием. Но на следующий день выяснилось, что первая сторожа вовсе не закоснела — явился ведомец Василий Тупик с языком[17]. Пленник, безбородый, но с отвислыми крашеными усами, в военных доспехах ордынского темника, сначала дерзил и норов непокорный выказывал, врал безбожно, будто воинов с Мамаем пришло чуть ли не миллион, однако вскоре признался под допросом, что никакого миллиона нет в помине, а раз в десять поменьше и что поэтому хан не спешит идти на Русь, ждет осени, чтобы соединиться с литовским Ягайлой и рязанским Олегом. И о намерениях Ягайлы и Олега известно было вельможному пленнику, он воспроизвел по памяти — правду ли говорил или отсебятины много добавил — тексты посланий Олега литовскому князю и хану.
«Восточному вольному великому царю царям, Мамаю, посаженный твой и присяжник Олег, князь рязанский, много молит тебя. Я услышал, господин, что ты хочешь идти и грозишься на твоего служебника Дмитрия, князя московского; теперь, пресветлый царь, приспело время злата и многих богатств. Князь Дмитрий, как только услышит имя ярости твоей, убежит в далекие места, или в Великий Новгород, или на Двину, а богатство московское будет в руке у тебя; а меня, Олега рязанского, раба твоего, сподоби своей милости. Мы оба твои рабы, но я служу тебе со смирением и покорством, а он к тебе с гордостью и непокорством. Я мною великих обид принял от твоего улусника Дмитрия. А когда я погрозил ему твоим именем, он не посмотрел на это, а еще заграбил город мой Коломну. Молю тебя, царя, и бью тебе челом: накажи его, чтобы он чужого не похищал» — так отписал будто бы Олег поганому Мамаю, послав к нему своего сына. А вот что, по словам ханского темника, сообщил он одновременно Ягайле: «Ты давно хотел прогнать московского князя и овладеть Москвою, теперь пришло время; Мамай идет на него, соединимся с ним; посылай своих послов к нему с дарами. Сам лучше меня знаешь, как поступить».
Ягайло — враг сильный, Олег менее могуществен, но зловреден и коварен — жестокосердный с юности, взращенный на ненависти к Москве, с годами (был он ровесником Дмитрия Ивановича и даже некогда сватался, говорят, к Евдокии Дмитриевне, да получил отказ) стал лукавым, хитрым. Вполне можно бы поверить пленнику, но Дмитрий Иванович раздумывал. Много ведь и доброго было в их отношениях. Когда, например, заключали двенадцать лет назад с великим князем тверским Михаилом Александровичем договор, то в посредники, в «третейские судьи» взяли именно его, Олега, записали так: «А что учинится между нами, князьями, каково дело, ино съедутся на рубеж да меж нас поговорят, а не уговорятся, ино едут на третьего на великого князя Олега: на кого помолвит — виноватый перед правым поклонится, а взятое отдаст». Несколько дней назад Олег прислал Дмитрию Ивановичу свой свиток, запечатанный воском и оттиском печати: «Мамай со всем царством идет в землю Рязанскую против меня и тебя. Ягайло тоже. Но еще рука наша высока, бодрствуй и мужайся!» Что это — добрососедское предостережение или обдуманное стремление скрыть свою измену русскому делу? Так или инак, но действия рязанского князя были возмутительны.