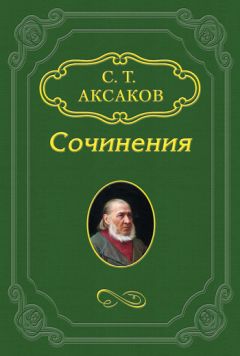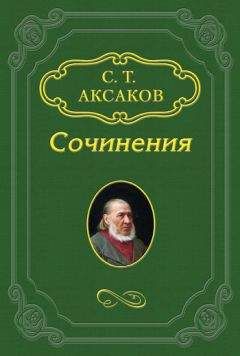Сергей Андреев-Кривич - Крестьянский сын Михайло Ломоносов
— Будь милостивец!
— На тебя как на каменну стену!
И араушка, спотыкаясь, кланяясь, потянулась к выходу.
Когда все вышли, Милюков увидел Михайлу.
— Ага, — сказал он сумрачно, — ты, значит, тут был.
— Тут.
— С делом пришёл или так просто с проведаньем?
— С делом. Ловко вы это с ваганами управились. В самом деле, что ли, в их сторону дело решите?
— Как по закону выйдет, так и решится.
— Купец больше заплатит?
— А ты говори прямо своё дело.
— А ежели, Иван Васильевич, повыше про такие ваши дела узнают?
— Да не так уж и удивятся.
— Может, и верно. Пойду-ка я восвояси.
Милюков удерживал Михайлу:
— Ты постой, постой-ка. Ловок. Скажи свое дело. Посмотрим, не много ли запрашиваешь.
«В жизни, знаешь, вроде как на войне, в бою. А в бою не намахаться руками, а верх взять», — вспомнились Михаиле слова Сабельникова. Припомнился ему и ответ Шубного: «Ежели кто против тебя хитрый, то и над хитростью верх возьми».
— Когда шёл сюда, Иван Васильевич, не знал, как к делу приступиться. Ну, ежели какую тайну хотите сохранить…
— Не велика тайна-то.
— Сам знаю. Да и дело моё невелико тоже.
— Ну, рассказывай.
Когда Михайло был уже далеко от воеводской канцелярии, он вынул паспорт, чтобы ещё раз посмотреть на него. Паспорт был выдан «города Холмогор церкви Введения пресвятыя богородицы попа Василия Дорофеева сыну Михайле».
Глава двадцатая
ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ
Густая и медленная лавина снега падала на Куростров, когда в вечерней тишине возвращался Михайло домой.
Глухо стучат копыта о мягкую снежную дорогу. Лёгкой рысцой бежит хорошо знающая дорогу баневская крепкая лошадка. Устроившись в углу саней, Михайло плотно укутался в тулуп. Ночью всё решится. Когда все уснут, погаснут огни в окнах, он выйдет из дому, в последний раз пройдёт по деревенской улице, спустится к реке и пойдёт к дороге, которая через Вологду легла на Москву.
Михайло потрогал спрятанные под полушубком паспорт и письмо. Из воеводской канцелярии он заехал к Каргопольскому попрощаться и взять обещанное письмо к Постникову в Москву.
По склону Палишинской горы Михайло доехал до Ильинской деревни, дома которой сгрудились около Екатерининской церкви. По косогору лошадь дошла к сельскому кладбищу.
Неогороженное кладбище стояло занесённое снегом. Голые кусты ивняка разбросались меж могил.
Привязав лошадь у въезда на кладбище, Михайло по высокому рыхлому снегу прошёл между крестами к тому месту, где залег пустырёк у могилы матери.
В еловых ветвях перекликнулась почуявшая человека галочья стая. Несколько потревоженных птиц снялись с мест и в темноте, сбивая с ветвей снег, перелетели подальше.
Вот большой деревянный крест…
Михайло сел у могилы. Вспомнилось ему детство, мать, а потом похороны. Грубее и проще стал вокруг него мир после смерти матери. Часто обращался он мыслью к тому, что говорила когда-то мать, передавая сыну накопленную день за днём трудную жизненную науку и правду.
…Чуть поскрипывают полозья саней. Недалеко уже баневский дом.
«…А от отца иначе, — думалось Михаиле. — Жила бы мать, по-другому случилось. Мать легче угадала бы. А отец в сердце не почуял моей правоты и правды. И не потому, что сердце в нём недоброе, нет. Просто своё глаза ему застит. Не понимает отец того, что не на своём деле, на его дороге, не в силе окажусь. Отец-то крепок в своём стремлении; какой хотел, такой жизнь ему и вышла. А вот свою кровь-то и не признал».
— Когда же в путь? — спросил Михайлу Банев, отдавая ему паспорт.
— Этой ночью. Как все дома и на деревне уснут. До утра далеко уж успею уйти.
— Так. Правильно. Нечего медлить. Каргопольскому паспорт показывал?
— Да.
— Что он сказал?
— Сказал, что хороший сын у холмогорского попа Василия Дорофеева…
— Будто неплох, совсем неплох. И Постникову, стало быть, Каргопольский о крестьянстве уж не писал?
— Больше уж не к чему.
— Дело.
Когда хлопнула за Михайлой дверь, Банев долго ходил по скрипевшим половицам, смотрел в окошко, садился к столу, опять вставал. На душе у него было тревожно.
Михайло вырос у него на глазах. Мальчик, совсем ещё ребенок, он бывал первым среди деревенских ребятишек. Кто мог ловчее взлезть на высокую ель? Смелее сесть на невыезженную лошадь? Ночью пойти через поле, когда встают с лёжек волчьи стаи? А позже, когда стал учиться, кто был понятливее его, смышлёнее? Кто лучше мог постоять за себя? Кто выдался всем: и умом и смелостью?
И давно уж Баневу казалось: невровень с ним, с Михайлой Ломоносовым, здешняя жизнь. Что ж, пусть идёт, счастья-доли ищет. Мир велик.
Банев открыл книгу, засветил свечу, стал читать. Но чтение не шло. «Ненастоящая для Михайлы эта жизнь, ненастоящая… — думал Банев. — Да. А что такое настоящая жизнь? Жизнь бывает счастливая и несчастливая. И в этом многие разбираются. А что такое настоящая жизнь — это, видно, узнать не так уж легко. Пусть по большой мере Михайло это и изведает».
Банев так задумался, что не услышал, как скрипнула отворённая дверь. Холодный воздух пахнул из сеней, пламя свечи дрогнуло. Банев поднял глаза. На пороге стоял Василий Дорофеевич Ломоносов.
Глава двадцать первая
ВСЁ РЕШИЛОСЬ
Не раздеваясь, а только сняв шапку, Василий Ломоносов сел на скамью подле двери.
— Как ты здесь? Будто уехал?
— Уехал. Да вот опять завернул. Поначалу, перед Архангельском, нужда мне была заехать в Усть-Пинегу. В обратную сторону, то есть. А потом, едучи через Холмогоры, решил домой всё же завернуть. Тебя повидать. Потолковать.
«Знает ли уже обо всём Василий? Пока глазом не сморгнёт… Поглядим…» И Банев выговорил спокойно:
— Что ж, потолкуем.
Василий Дорофеевич расстегнул тугие крючки овчинной шубы.
— Жена-то тебе передала?
— Как не передать.
— Точно ли передала? Понял, о чём я просил?
— Понял.
— Ну, тогда всё хорошо. А то поспешил я утром, тебя не дождался. А потом и тревога взяла: вдруг да неточно тебе скажут? Вот и решил я вернуться. Самому сказать. Да и метель подходит. Заночую дома, а завтра, как рассвенёт, в путь.
Ничего ещё не знает…
Василий Дорофеевич поднялся.
— Погоди, Василий… Охолодал, чайку попей.
— Ну и то. Попить чайку. Морозище-то! Ух!
Василий Дорофеевич снял шубу и сел к столу.
Пока жена готовила чай, Банев, достав бумагу и взяв перо, что-то стал писать.
— Что это ты пишешь? — спросил Василий Ломоносов.
— Да тут дело важное. Вот и пишу.
Василий Дорофеевич поглядел на написанное. Вздохнув, он сказал:
— Не понимаю. Полезное дело грамота.
— И впрямь. Полезное.
Кончив писать, Банев вышел в другую комнату, разбудил уже спавшего сынишку и тихо сказал ему, чтобы бежал со всех ног в дом Ломоносовых и передал бы Михайле записку. Да чтобы никто не видел…
Получив записку, Михайло схватил мешок, уложил в него книги, на ходу уже надел шубу, нахлобучил шапку и вышел из дому.
Начиналась сильная метель, и из темноты накатывали холодные клубы снега.
К дому Фомы Афанасьевича Шубного, стоявшему на отшибе, далеко от ломоносовского, Михайло прошёл околицей по еле протоптанным кое-где тропкам, местами по глубокому снегу.
— Дядя Фома! Ухожу! — Михайло снял шапку. От быстрой ходьбы на лбу у него выступила испарина. Скинув полушубок, он рукавом рубахи утёр пот. — Ухожу, дядя Фома!
— Ну, в путь.
— Дядя Фома, вот что тебе сказать надо. Через неделю пойдёт на Москву рыбный обоз, в котором будет и Христофоров Михаил Александрович, что до Москвы меня довезти обещал. Так передай ему, что в Антониево-Сийском монастыре[63] дожидаться буду… Фу! Немного вздохнуть! — И Михайло снова вытер пот.
— Всё передам. Что ты так разгорячился?
— Отец нежданно вернулся.
— Что?
— Вернулся. Банев его у себя задержал. А тем временем я из дому ушёл.
— Вон как, вон как.
— С отцом-то никак встречаться не следовало.
— Ещё бы!
— Ну, теперь-то уж всё. Из дому ушёл. Малость вздохну у тебя, дядя Фома, а потом в путь.
— Ох, беглец, беглец! Считаться нам всем с Василием Дорофеевичем. Ох, считаться! Пашпорт-то выправил?
— Да.
— Покажь.
Михайло вынул из-за пазухи тщательно увёрнутый в тряпицу паспорт. Подойдя к огню, Шубный прочитал, что в нём написано. Он усмехнулся:
— Кто того добился?
— Случаем вышло.
И он рассказал, как всё произошло.
Шубный отошёл от огня и передал паспорт Михайле.
— Стало быть, в путь. Денег-то, когда тебе собирали, сколько набежало?
— Пять рублей и ещё немного.
— А кроме того, у тебя что есть?
— Самая малость.
— Небогато идёшь. В дороге чем пособи, деньги береги, в Москве ох как нужны будут! Пять рублей… Так… — Фома Шубный открыл запертый на замок сундучок, порылся в нём. — Вот к твоему богатству ещё три рубля. — И он передал Михайле деньги. — В этом ли, как на Москву придёшь, учёным людям показываться будешь? — кивнул Шубный на Михайлину холщовую рубаху.