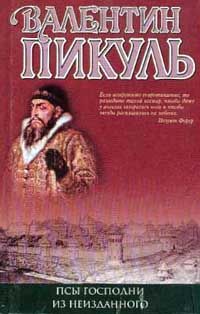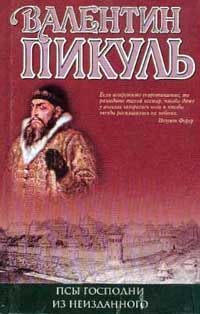Валентин Пикуль - Псы господни
Висковатов докладывал царю:
– У короля Сигизмунда не стало грошей, он войны боится, а потому направил послов к крымскому хану Девлет-Гирею, чтобы тот ударил конницей по границам нашим. Видно, что одних речей о мире не хватает, чтобы мир наладить.
Иван Грозный указал собирать в Можайске ополчение из ратников, при них было около двухсот пушек, которые в те времена, как и корабли, каждая имела свое название. Русская артиллерия уже тогда была передовой в мире. «Мажоры» (мортиры) били навесным огнем, «тюфяки» изрыгали подобие картечи, а «гауфницы» (гаубицы) выпаливали во врагов целые кучи мелко раздробленных камней…
В поход царь взял двоюродного брата князя Владимира Андреевича Старицкого, который не раз отличался в войнах мужеством, он был честен, великодушен, талантлив. Братьев окружала громадная свита, в ней были и царевичи казанские и касимовские – татары! Сигизмунд сибаритствовал в Петрокове, и не хотел даже верить, что в Литву вторглась громадная армия московитов. Он сказал Николаю Радзивиллу:
– Черный, пока эти лентяи тащутся к Полоцку, ты сумеешь опередить их. Если царь захотел сломать зубы о твердость нерушимых стен Полоцка, то за Полоцк мы можем быть спокойны: там сидит опытный воевода Довойна. Надеюсь, – заключил король, – тебе сорока тысяч жолнеров хватит…
Но русские выставили заслон, и Радзивилл не отважился на сражение. Ополчение Руси осадило Полоцк – древний град старой Руси, помянутый не только в летописи Нестора, но воспетый еще в скандинавских сагах. Полоцк и теперь был намного богаче Вильны, имел до ста тысяч жителей, город открывал дорогу на Вильну и Ригу. Царь взмолился:
– Неужто не изольет бог милосердие на нас, недостойных?
«Мажоры», «тюфяки» и «гауфицы» начали обработку крепостных стен. Когда рухнули триста сажен обгорелой стены, воевода Довойна сдал крепость… Узнав об этом, Сигизмунд был в отчаянии и сказал пристыженному Радзивиллу:
– Эта война станет позором моей старости…
В письмах к Девлет-Гирею он упрекал крымского хана за то, что тот не вылезает из Крыма для набега на Русь; король засыпал своими письмами русских воевод, предлагая им бежать в Литву на вольное житье; такое же приглашение к измене получил и князь Андрей Михайлович Курбский. Иван Грозный возвратился в Москву, где жители встречали его с таким же ликованием, как и после взятия Казани. В селе Крылацком, на окраинах столицы, томились, его ожидая, сыновья Иван да Федор и слабоумный брат Юрий, и он их всех нежно расцеловал, а потом глянул на сжавшуюся возле печки супругу свою Марию Темрюковну:
– Слыхивал, что в блуде живешь… ненасытная!
Потом махнул рукой и больше не глядел на нее:
– И без твоих шалостей вашего добра на меня хватит…
11. Беги, пока не поймали
Жизнь Куэваса, всего лишь носильщика королевского паланкина, складывалась прекрасно. Не каждому молодому идальго выпадало такое счастье, чтобы приблизиться ко двору испанского короля, где можно думать о чем угодно, но только не быть озабоченным добыванием обеда.
Мадрид в ту пору считался столицей всего мира, властно диктуя свои моды, свои симпатии и вкусы Вене, Парижу, Амстердаму и даже Лондону; только закоснелый в упрямстве Стокгольм перенимал испанские одежды с брезгливым опозданием, а Московия продолжала париться в дедовских шубах, даже не подозревая, что в этом мире существует такая коварная мода на моду…
Блеск испанского двора казался тогда неподражаем, вызывая зависть иных дворов Европы если не траурным фоном одежды, то хотя бы изобилием сверкающих драгоценностей, выставляемых напоказ грандами, сеньорами и сеньоритами. Позже все это богатство испанской знати делось непонятно куда, но зато точно известна дата великого испанского грабежа: в 1810 году Наполеон попросту обчистил Эскуриал, вывезя во Францию десять громадных фургонов, наполненных драгоценностями. Все эти ювелирные изделия были безжалостно исковерканы: сверкающие камни император раздаривал своим дамам и маршалам, как детям конфеты, а испанское золото и серебро навеки исчезло в бурлящих тиглях Парижского монетного двора, превратившись в звонкую монету для финансирования войны с Россией. В ленинградском Эрмитаже уцелели лишь немногие драгоценности двора Филиппа II, в том числе и украшенные «тремя гвоздями» (в память о тех гвоздях, которыми Христос был прикован к распятию).
Ливонская война, в перипетиях которой Мадриду издали было трудно разобраться, кто кого бьет и зачем бьет, эта война почти не волновала испанцев, а Филипп II думал о ней как о борьбе двух «еретиков» – совсем не жалко ливонских лютеран (!), схватившихся с московитами, которые оставались верны византийской схизме (!). Испанского короля, как и римского папу, больше волновали иные вопросы. Шла затяжная война Франции с Англией из-за гавани Кале, а совсем недавно в Шотландии высадилась Мария Стюарт, католическая королева, соперницей ее в Англии стала королева Елизавета I – и борьба этих двух женщин напоминала, скорее, религиозный диспут католички с протестанткой.
Наконец, политиков Мадрида беспокоило глубокое проникновение мусульман в самое сердце Европы. Венский император Фердинанд I был близок к смерти, а Сулейман Великолепный продвигал свои таборы внутрь Венгрии, делал из нее турецкий «пашалык», султан уже прочно сидел в мадьярской Буде (Будапеште), угрожая владениям венских Габсбургов…
До жалкого носильщика, каким был Куэвас, конечно, не доходили эти кошмарные новости, потрясающие всю Европу, да ему, честно говоря, и не хотелось знать, что творится в мире, ибо важнее знать, какой суп варят сегодня на королевской кухне. Духовные запросы Куэваса были так же ограничены, как у сороконожки, живущей в зловонии отхожего места и считающей, что весь мир заключен в этой блаженной и теплой вонище, и лучшего ничего не надо…
Питаясь объедками с королевского стола, Куэвас насыщал свой убогий интеллект и огрызками тех обывательских слухов, которые едва ли волновали других европейцев. Тогда в Париже впервые появился табак, завезенный из американских колоний, и дипломат Жан Нико подарил королеве Медичи табачные листья, чтобы, нюхая их, она избавилась от головных болей. Табак сначала нюхали, а затем – по примеру американских индейцев – стали и покуривать. Мода на курение из Парижа перекочевала в Германию, где задымили трубками бродячие ландскнехты всяких национальностей…
Куэвас запомнил разговоры придворных:
– Если строят дом, то не забывают в нем двери, чтобы войти в дом и выйти из дома. Так и в этом случае. Создатель дал человеку одну верхнюю дырку, чтобы он принимал яства, и не забыл сделать в человеке нижнюю дырку, чтобы он освобождался от яств. Но с табаком что-то непонятное. Если человек вдыхает дым дыркой для приема пищи, тогда… где же труба, чтобы он выдыхал дым наружу?
– А на что же тогда человеку даны ноздри?
– Чтобы сморкаться…
Английская королева Елизавета I повелела всем курильщикам табака отрубать головы, чтобы они больше не дымили. Но тут лучше всего обратиться к воспоминаниям самого Куэваса.
* * *…Каждый навоз знай свою кучу, – говорили испанцы, и я, позже побывав в Москве, удивился, что у русских есть подобная же сентенция: каждый сверчок знай свой шесток!
Я ничем не выделялся среди таких же идальго, имевших счастье прислуживать королевским особам. Но, подражая благородным грандам и приорам церкви, я перенял от них величественный жест, выражающий покорность: моя правая рука была приложена к сердцу, где затаилась вечная скорбь по святой деве Марии. В такой позе, воздев глаза кверху, я застывал надолго, как невменяемый истукан, принимая заслуженные похвалы видевших меня в этот момент:
– Посмотрите, как благочестив этот молодой и красивый идальго! Почему бы нам не сказать королеве, что ему не под силу таскать паланкин по нашим грязным дорогам?..
Божья благодать вскоре снизошла на меня с высот горних, грешникам недоступных: из носильщиков паланкина, еще раз проверив мою родословную по линии отца, меня зачислили в штат пажей нашей прекрасной королевы. Конечно, меня переодели заново, и я был безмерно счастлив, когда служители гардероба назвали меня «сеньором».
Сначала я примерил красные башмаки с фестонами и очень тупыми носками. Потом натянул перед зеркалом штаны-бриччес – короткие и пышные, вроде подушек, костюмеры советовали напихать в них сена и пакли, чтобы эти бриччес раздулись на бедрах пошире. Малиновые трико-чулки обтянули мне ноги до самого паха. Возле шеи приятно похрустывал воротник из фиолетовых кружев. Шпага с левого бока лежала почти горизонтально, покоясь эфесом на оттопыренных бриччес, а возле пояса висел толедский кинжал в ножнах, придавая мне мужественный вид.
Именно в эти дни меня изволила заметить графиня Изабелла Оссориа, бывшая с королем на аутодафе в Толедо.
– О, как ты похорошел! – засмеялась она. – Гадкого заморыша из Каталонии отныне и не узнаешь…