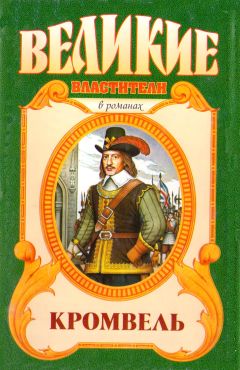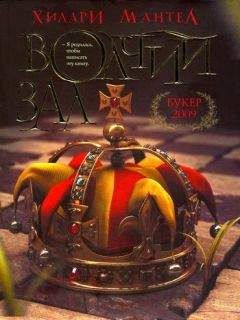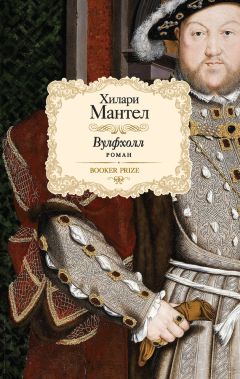Алексей Варламов - Булгаков
Киевское время оказалось для Михаила Булгакова по-своему не менее драматичным, чем годы службы в смоленских земских больницах, оно сделало нашего героя свидетелем и участником великих и страшных событий 1918 и 1919 годов, подарило ему сюжет «Белой гвардии» и дало эпическую тему крушения старой и созидания новой российской государственности, а также кроваво-фарсовых попыток утвердить государственность украинскую. Булгаков увидел смерти, кровь, страдание в некогда мирном и счастливом городе и был приведен на самую стремнину исторического потока, который нес Россию в ее смутное будущее.
«Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается, – вспоминал он в очерке «Киев-город». – Будто уэльсовская анатомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело и клокотало и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах в окружности 20 верст радиусом.
Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей и явится лет через 50 новый, настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917–1920 годам».
Булгаков, конечно, не Лев Толстой, но глубже всех описать произошедшее в Киеве в пору войны между красными и белыми было суждено именно ему, и это на нем наживались и наживаются книгоиздатели во всем мире. Но прежде чем эти вьюжные всполохи запечатлеть, 27-летнему врачу надо было излечиться от наркотической зависимости.
По воспоминаниям Татьяны Николаевны, в Киеве Булгаков по-прежнему посылал ее по разным аптекам, она делала это «под его давлением, с большой неохотой» [28; 96]. Между ними часто возникали конфликты, как вспоминала Лаппа, однажды муж бросил в нее горящую лампу, другой раз шприц. Мариэтте Чудаковой Татьяна Николаевна рассказывала, что Михаил однажды в нее целился из браунинга. «Ванька и Колька вбежали, вышибли у него браунинг» [142; 64]. «Браунинг я у него украла, когда он спал, отдала Кольке с Ванькой: „Куда хотите девайте“» [87; 57], – дополняет этот рассказ ее интервью Л. Паршину.
«Михаил был морфинистом, и иногда ночью после укола, который он делал сам себе, ему становилось плохо, он умирал. К утру он выздоравливал, однако чувствовал себя до вечера плохо. Но после обеда у него был прием, и жизнь восстанавливалась. Иногда же ночью его давили кошмары. Он вскакивал с постели и гнался за призраками», – вспоминал зять Булгакова Леонид Сергеевич Карум.
Одно время напуганный женой, что его уже якобы взяли под заметку в нескольких аптеках и могут отнять врачебную печать, Булгаков пробовал употреблять вместо морфия то опиум, то валерьянку, но от суррогатов становилось только хуже («Стал пить опий прямо из пузырька. Валерьянку пил. Когда нет морфия – глаза какие-то белые, жалкий такой» [142; 64]), и не исключено, что позднее эти эксперименты нашли отражение в дневнике его персонажа:
«Я – несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – сквернейший и коварнейший яд».
В ситуацию вмешался доктор Воскресенский, которого, как мы помним, еще подростком невзлюбил Михаил Афанасьевич и не мог простить матери, что она «затеяла роман с доктором». Но теперь именно этому человеку, сразу же понявшему, что происходит с его пасынком, было суждено Булгакова спасти.
«Он воспринял все происходящее очень серьезно, – рассказывала Татьяна Николаевна. – После раздумий Иван Павлович сказал, что готов взять лечение на себя, но осуществлять он его хотел бы только через мои руки, никого больше не посвящая в суть дела. „Нужно будет попробовать вводить взамен морфия дистиллированную воду, попытаться таким образом обмануть рефлекс пристрастия, – предложил он. – А произносить бесполезные слова, что наркотики подобны смерти… Все это уже, пожалуй, ни к чему, Михаил Афанасьевич ведь и сам знает, сколь ужасны могут быть последствия. Наоборот, будем делать поначалу вид, что и я решительно ни о чем не осведомлен“» [28; 96].
Татьяна Николаевна начала приносить от Воскресенского запаянные ампулы с подменой, которые внешне выглядели как наркотик. «Михаил Афанасьевич ждал меня с нетерпением и сразу же сам делал себе инъекцию. Время шло, по договоренности с Иваном Павловичем я стала приносить такие ампулы реже, объясняя это тем, что в аптеках почти ничего нельзя достать. Михаил Афанасьевич теперь довольно спокойно переносил эти перерывы. Догадывался ли он о нашем заговоре? Мне кажется, что через некоторое время он все понял, но принял правила игры, решил держаться, как ни трудно это было. Он осознавал – вот он, последний шанс. Очень не хотел попасть в больницу.
Иван Павлович приходил почти ежедневно – они играли в шахматы, обсуждали профессиональные темы, говорили о политике. Потом выходили на прогулку, спускались обычно к весеннему Днепру. „Тася, все окончится хорошо, Михаил выздоровеет“, – убеждал меня Воскресенский. Так пришло избавление – навсегда. Случай очень редкий в медицине» [28; 96].
Эту историю Татьяна Николаевна рассказывала киевскому исследователю А. П. Кончаковскому, однако в разговоре с Л. Паршиным, с которым она была, по-видимому, наиболее откровенна, эпизод с излечением мужа описывала более сдержанно, нехотя и не подтверждая того, что говорила другим интервьюерам:
«Т. К. … постепенно он сознал, что нельзя больше никакие наркотики применять.
Л. П. Он где-нибудь лечился?
Т. К. Нет. Он знал, что это неизлечимо. Вот так это постепенно, постепенно и прошло. В общем, веселенькая была жизнь. Я чуть с ума тогда не сошла» [87; 57].
Про ампулы с водой – ни слова, и таким образом сказать определенно, что происходило с Булгаковым на самом деле, сколько продолжалась эта своеобразная терапия, насколько была она эффективной и что думал о методах лечения сам пациент, трудно. «Позволим себе усомниться, что вместо морфия можно незаметно впрыскивать дистиллированную воду. Разбавлять морфий дистиллированной водой – да, оставляя таким образом количество раствора прежним, но уменьшая его концентрацию, тем самым плавно и психологически не столь болезненно редуцируя дозу. Этот способ хорошо известен и в свое время имел широкое применение» [47], – пишет Ольга Жук. Так или не так поступал Иван Павлович Воскресенский, но характерно, что в письме, которое Булгаков написал матери в 1921 году, в конце была приписка: «Ивана Павловича целую крепко» [48; 285], а еще позднее, когда Варвары Михайловны не стало, Булгаков писал сестре: «Я думаю, что ты и Леля вместе и дружно могли бы наладить жизнь в том угле, где мама налаживала ее. Может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что лучше было бы и Ивану Павловичу, возле которого остался бы кто-нибудь из семьи, тесно с ним связанной и многим ему обязанной <…> С большой печалью я думаю о смерти матери и о том, что, значит, в Киеве возле Ивана Павловича никого нет» [48; 295].
Он умел быть благодарным и признавать ошибки… Но сколь бы ни была велика заслуга доктора Воскресенского в деле исцеления доктора Булгакова (первого извлечения Мастера, если угодно), очевидно, что летом[10] 1918 года в Киеве произошло чудо – после года практически ежедневного употребления морфия тяжело больной человек избавился от привязанности к наркотику и никогда более к нему не возвращался (если не считать литературного мотива, перекочевавшего и в «Белую гвардию», и в «Мастера и Маргариту» с ее эпилогом, где именно укол морфия успокаивает Ивана Николаевича Понырева – Иванушку Бездомного, и даже в «Театральный роман»: «…я вернулся в театр, без которого не мог жить уже, как морфинист без морфия»), но нет сомнения, что роман с морфием сильно ударил по психическому и физическому здоровью писателя, с той поры сильно изменившегося и как будто бы внутренне надорвавшегося.
Впрочем, глубокое убеждение автора этой книги заключается в том, что дело было не только в медицине и даже не только в огромной воле Булгакова и великом терпении и самоотверженности его первой жены. Жизнь этого человека, как никакая другая жизнь русского писателя XX века, была подчинена судьбе и не допускала уклонений: ему надлежало в свой черед стать зависимым от морфия и в свой черед от этой зависимости исцелиться, и в обоих случаях, и в болезни, и в выздоровлении, виноваты два главных орудия рока – время и место действия человеческой жизни. Одиночество и тоска бесприютных жилищ Никольского и Вязьмы сменились самой красивой киевской улицей, Булгаков оказался среди братьев и сестер, в том привычном дружеском кругу, в который ему настойчиво хотелось вернуться. Счастье этого возвращения домой позднее отразится в «Белой гвардии», насыщенной токами приятельства, дружбы, братства, сестринства, чувством защищенности, дома и всеобщей любви, и когда житомирский кузен Лариосик после своей личной драмы прибудет в Киев и поселится в доме на «Алексеевской спуске», потому что «в квартире у них тепло и уютно, в особенности замечательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира… А он, этот внешний мир… согласитесь сами, грязен, кровав и бессмыслен… а наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами», то этот одновременно иронический и очень нежный отрывок выразит чувства самого Булгакова, оказавшегося в родном кругу. Это был тот мир, в котором он вырос, который любил, был к нему привязан и не мыслил без него своего существования, этот мир его исцелил, в него он вернулся. И если уж задаваться идеей искать в жизни Булгакова особый мистический смысл, если отыскивать некий сакральный момент заключения договора с высшими силами, то произошло это именно летом 1918 года, когда в обмен на излечение от болезни Булгаков, сознательно или нет, но подписал контракт с судьбою, по которому три старухи мойры возымели над ним полную власть, и отныне не он выстраивал свою жизнь, а они указывали ему путь. Не случайно в дальнейшем слово «судьба» станет ключевым в его размышлениях над собственной биографией и над биографиями его любимых героев.