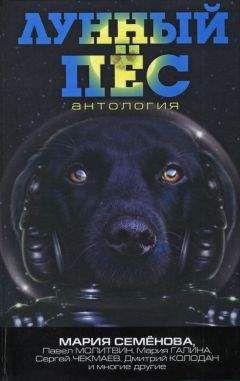Павел Загребельный - Евпраксия
На все жалобы Генрих отвечал, что он действует в согласии с законом о неуплате десятины. И отпускал при этом шуточки: де, нельзя до конца познать родную землю, не побывав в ее тюрьмах.
Саксонцы жаловались: "Нас вынуждают платить за воду, которую мы пьем, за дрова, которые мы собираем в наших лесах". Издавна за это не платили.
Считали своим, данным от бога. Незнамо откуда взялся король, заявил: это мое! Выдумал какой-то поземельный королевский налог.
Пока императорами были представители Саксонской династии, они не трогали Саксонию; Генрих же добрался до нее. Перенес столицу в Гослар, строил бурги, обижал баронов и графов, обиды с каждым годом умножались, клирик Бруно в своих записках жалуется, что не в состоянии даже перечислить всех обид, ибо "не хватило бы ни памяти, ни приспособлений для писания".
На самом же деле все обстояло значительно проще. Хватало пальцев на руках, чтобы перечислить: епископ Гальберштадский Бургхард жаловался, что Генрих отнял у знатного мужа по имени Бодо имущество, принадлежавшее Гальберштадской церкви.
Пфальцграф Фридрих жаловался, что по велению короля у него отняли бенефиций, полученный им от Герсфельдского аббатства.
Маркграф Деди говорил о незаконной конфискации королем потомственных владений.
Граф Герриман сказал, что Генрих захватил принадлежавший графу по наследственному праву укрепленный город Люнебург.
Оттон Нордгеймский сетовал, что император отнял у него, ни в чем не повинного, герцогство Баварское.
А на самом деле?
Баварию Генрих отнял у Оттона за измену. За ту же провинность отняты земли у Деди и маркграфа Тюрингского, которые подняли бунт против Генриха.
Люнебург присоединен как принадлежность короны из соображений государственной целостности и безопасности.
Первый бунт Оттона Нордгеймского Генрих подавил довольно легко: забрал у Оттона Баварию и часть имущества, а союзник Оттона саксонский герцог Магнус Билелунг был лишен герцогства и заточен. Тогда против Генриха объединилась вся саксонская знать. Епископы Гальберштадский и Гильдесгеймский, саксонский герцог Герриман, граф Генрих, архиепископы Магдебургский, Минденский, Падерборнский, маркграф Уто, маркграф Экберт.
Простой люд, вольностям которого имперцы угрожали каждодневно, также присоединился к своей знати. От тех отдаленных времен сохранилась написанная латынью "Песня про Саксонское восстание":
По всей земле рассылают всадников,
Всадников с обнаженными мечами,
Собирать на битву народ,
Защищать себя и свой дом.
Тот, кто прежде пахал, – кует
Крепкий меч обоюдоострый
Из твердых кирок, из широких лопат,
А из кос – острия для копий,
Ладит один легкие панцири,
Покрывает другой крепким железом
Шлемы для всадников, нужные в битве.
Третий готовит боевые дубинки,
Свинцом и железом их утяжеляя.
Тысячи тех, кто сеял хлеб,
Будто справное войско,
На битву идут.
Оставлено поле, брошено все.
Каждый спешит, об оружии печется,
Множество их – столько в море воды,
Множество их – столько в поле колосьев.
Саксония бушевала целых три года. Неожиданно упали на эту мягкую землю страшные морозы, вымерзли реки, остановились мельницы, не стало хлеба, плохо одетые крестьяне страдали от холода и голода. Всякий раз, когда приступом брали какой-нибудь из королевских замков, его разрушали до основания и камни разбрасывали, чтобы ничего не напоминало о нем.
Благосклонный к Генриху епископ Люттихский Отберт писал позднее: "Король, осознавая погибель, которая уготована малочисленности в ее противоборстве с множеством, посчитал свою жизнь выше славы, спасение выше безумной отваги и, по необходимости, бежал".
Саксонцы добрались наконец и до любимого Генрихом Гарцбургского замка, уничтожили там все, разрушили церковь, разогнали женский монастырь, вырыли из земли тело Генрихова сына и выбросили диким зверям.
Когда же крестьянское по преимуществу войско саксонцев встретилось с верными Генриху рыцарями и в горячий июньский день в долине реки Унштрут возле Гамбурга вспыхнула битва, то многие бароны, епископы Гальберштадский и Гильдесгеймский и некий Фридрих де Монте, который громче всех жаловался некогда на императора, предали крестьян и переметнулись на сторону Генриха. Они смеялись над теми, кто еще вчера, бросив все свое нищенское имущество, поддержали их в тяжбе с императором, оказавшейся "семейной ссорой". "Это не воины, а грубые мужланы, коим надлежит ходить за плугом, а не воевать".
Тысячи простых саксонцев пали в той страшной битве. По их трупам можно было перейти Унштрут.
"Но, – как пишет Отберт Люттихский, – превозмог он (Генрих) – войско, а не упорство бунтовщиков. Они видели, что баронским возмущением можно раздражать короля, но не победить, что восстание причинит ему неприятности, но не сломит, ибо войска его непоколебимы, а потому, чтобы расшатать власть Генриха, они начали выдумывать и приписывать ему злодеяния и такие позорные поступки, какие только и может выдумать ненависть и злоба. Несказанно тяжко было бы мне писать, коли я отважился бы повторить все эти выдумки. Перемешав правду и не правду, они жаловались на Генриха римскому первосвященному Григорию VII".
ШЕСТИЛЕТИЕ
(Продолжение)
У государственного мужа каждый поступок, каждый шаг рассчитан на будущее. Прошлое вспоминают, когда оно так или иначе служит этой единственной цели. Тем более удивительными должны бы казаться Генриху неожиданные желания, овладевшие им в Кведлинбурге. Кто бы мог подумать, предвидеть, что ему, императору, захочется рассказать, что пришлось вынести от теперь уже покойного папы, и рассказать не кому-нибудь, а русской княжне. И это в пору, когда не ловил больше лукавых женских взглядов, когда все надоело, потеряло привлекательность и значение.
Необъяснимое расположение императора к Праксед любой, а первым всезнающий Заубуш, толковал как обыкновенную прихоть, и никто не придал ей никакого значения, не удивился, не взволновался, не заподозрил ничего особенного.
Хотя стоило удивиться, ведь эта девчонка отнеслась к императору довольно дерзко, без надлежащей почтительности, скорее он вынуждал себя заискивать перед нею, напрашиваться на беседы и встречи, да и на этих встречах… как только он пытался так или иначе завести речь о своем прошлом, о несчастьях, что пришлось ему пережить от саксонских баронов, а потом – неизмеримо больших и худших – от папы Григория, она просто отказывалась его слушать, все это, мол, происходило либо до ее появления на свет, либо во времена ее детства, когда мир представляешь совсем просто – местом обитания чеберяйчиков, о которых, разумеется, император никогда не слыхал и сути которых ему не дано постичь, несмотря на все его высокие и важные переживания, подвиги, поступки.
И странное дело: императора не отталкивало такое откровенное невнимание к его особе и к его жизни, он еще больше тянулся к Праксед, добивался каждодневных встреч, выдумывал то пышные приемы в своем дворце, то посещения аббатства, то императорские ловы, то выезды в горы. И хотя зима не перестала быть мглисто-печальной топи – белесо-красноватыми, небо – затянутым тучами, из которых все сеялась и сеялась пронизливая изморось, для Евпраксии будто осветилось что-то, впервые в этой земле ей стало интересно жить, она ждала утра, день перестал быть пустым, забывалась тоска, исчезло плаксивое самоуглубление, к чему вынуждала безнадежность монастырского существования.
Генрих как бы воочию развеивал свой показной траур по императрице рядом с этой хрупкой девушкой. Мог полдня посвятить ей, ходить и ходить под аркадами вкруг каменного дворика аббатства, и тогда все должно было спрятаться, исчезнуть, чтоб оставались только они двое, Генрих и Праксед, без свидетелей, без охранников и соглядатаев, чтоб могли вдоволь слушать друг друга, смотреть друг на друга, ощущая взаимную близость иль взаимную отчужденность, кто ж знает! Император удивлялся: до сих пор еще не разобрался, что же держит его возле этого существа, будто и состоящего-то всего из стройных ног и золотистых волос, возле этой совсем юной девушки, которой так к лицу черное платье, которая умеет слушать, но еще лучше говорить, возражать, спорить, совсем не считаясь с этикетом. Чем-то она, возможно, напоминала его самого, когда ему было столько же лет, сколько ей сейчас. Она могла быть его дочерью, сестрой, женой. Хотя зачем ему кто-то из них? С начала своего правления он всегда был один.