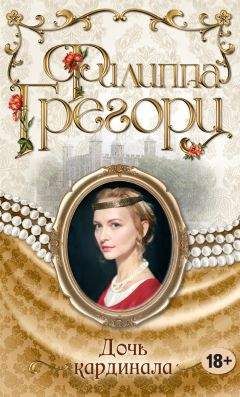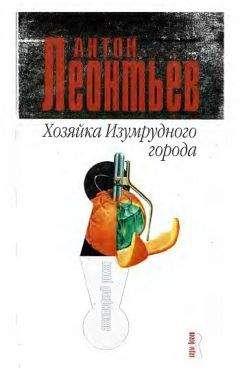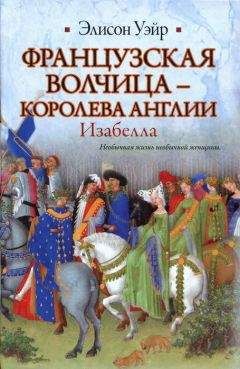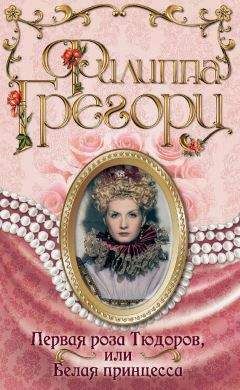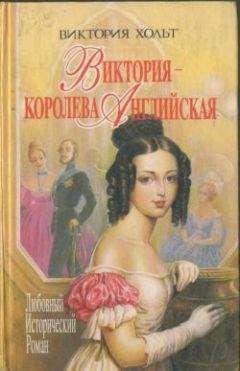Мария Марич - Северное сияние
Царь глубоко вздохнул. Ему вспомнился последний вечер у Марии Антоновны на ее даче под Петергофом. Милые глаза. Полная белая рука, нежно охватившая его плечо, и ласковая угроза: «Смотри же, если не приедешь долго — велю нашей дочурке разлюбить тебя. Да я и сама не могу, если тебя подолгу не вижу…»
— Наш губернатор Милорадович без памяти влюблен в эту красавицу, — продолжал Аракчеев, облизывая и без того мокрые губы. — Говорят, что для ее потехи скачет на одной ножке и кричит петухом.
Ольга Потоцкая, заметив, что Аракчеев то и дело поглядывает на нее, инстинктивно сжалась. Но тотчас же рассердилась за это на себя и постаралась выдержать замаслившийся аракчеевский взгляд.
— Ведь и то сказать, ваше величество, разве для эдакой женщины не наделаешь глупостей…
— Да, чего для нее не сделаешь, — думая о своей незаконной дочери, вслух повторил царь слова Аракчеева. И предложил тост «за прекрасных дам».
Аракчеев первый закричал «ура».
— «Без лести предан», — шепнул о нем Барятинский Басаргину.
— Да, этот бес лести предан чрезмерно, — отвечал тот. — Ведь для Аракчеева острый нож то, что царь зовет в поездку по военным поселениям Киселева. А смотрите, как юлит.
Обед тянулся не так долго, как ожидали. Царь явно чувствовал недомогание и время от времени дотрагивался до ушибленной ноги. Считая нужным показать свое по этому поводу "беспокойство, многие понизили голоса и прогнали с лиц оживление.
Наступал ранний вечер. Вся степь и соломенные павильоны зажглись алой зарей. Подул свежий ветер, и концы белых скатертей на столах, завернувшись с наветренной стороны, опрокинули несколько бокалов.
Виллье посоветовал царю ехать не верхом, а в коляске, чтобы не натрудить поврежденную ногу. Царь послушался. В то время как он осторожно усаживался на широком сиденье, экипаж окружила блестящая толпа.
Александр расточал любезные улыбки, покуда рядом с ним не уселся Аракчеев.
— Я бы этого полковника не то что сквозь строй прогнал, а четвертовал бы, мерзавца, — прогнусавил Аракчеев Витгенштейну. — Истинно говоря, не верю я, что он не преднамеренно ушиб государя. Ведь полковник-то полячок… — дернул себя за нос Аракчеев и сердито отвернулся.
После отъезда царя искусственно приглушенное в конце обеда оживление вспыхнуло с новой силой.
Вновь запенилось шампанское. На гладко строганном дощатом помосте под звуки духового оркестра закружились пары. Зазвучал женский смех.
Некоторые вышли из павильонов и любовались уже побледневшей зарей. На ее желто-зеленом фоне дымились и вспыхивали многочисленные лагерные костры. Возле них особенно четко вырисовывались солдатские силуэты.
Пестель, все время державшийся одиноко, подошел к стоящим в стороне Волконскому и Сергею Муравьеву-Апостолу.
Еще во время обеда главнокомандующий сказал Пестелю, что царь доволен молодецким видом солдат Вятского полка и приказал передать его командиру — полковнику Пестелю — свою благодарность.
Об этом, видимо, уже знали, потому что Волконский встретил Пестеля ироническим замечанием:
— Выходит, Павел Иваныч, что сочинитель «Русской правды» больше всех угодил государю.
— Сарказм, — поморщился Пестель. — А ваши дела, кажется, хороши, князь? Государь так благосклонно говорил с вами.
— Но что говорил! — ответил Волконский.
Передав разговор с царем, он просил совета, как поступить: сделать вид, что не понял намека, или выяснить значение царских слов.
— Конечно, попытайтесь выяснить, — сказал Пестель. — Я убежден, что он многое знает. А теперь нам неудобно держаться вместе. Жду вас вечером к себе.
12. У забытой копны
Небольшой кабинет Пестеля был весь уставлен полками с книгами. На стенах, кроме портретов родителей и любимой сестры, висели географические карты, на столе лежали аккуратно сложенные стопки бумаги, исписанной и чистой. В чугунном бокале белел пучок остро очинённых гусиных перьев. Мебель была только самая необходимая: стол, диван, два деревянных стула и узкая походная кровать с жесткой подушкой. Ковров не было, и только у входа лежало домотканное полосатое рядно. Окна выходили на запад. Вечерами, когда садилось солнце, Павел Иванович отдергивал пошире синюю штору и подолгу оставался у окна. Особенно любил он момент, когда красный солнечный диск, коснувшись земли, скрывался за горизонтом, оставляя легкую малиновую дымку. И сразу темнело небо и становились заметными еще бледные звезды.
В этот вечер особенно хороша была среди них Венера.
«Так же сияла эта звезда в Каменке, — любуясь ею, думал Пестель. — Голубая звезда… Почему мне так приятен ее свет? В Дрезденской галерее есть мадонна… Голубоглазая, светлая и такая легкая, воздушная… Как похожа на нее Элен Раевская…»
Пестель отошел от окна, как будто рассердясь на себя за то, что поддался очарованию голубой звезды.
«Я должен проходить в жизни мимо всего голубого. Оно не для меня. Мои цели властительно требуют всех моих умственных и душевных сил. Пути, мне определенные, лишены извилин. Мои сподвижники… кто они? Где среди них характеры античных героев? Восприняв свободолюбивые идеи отечественных и западных мыслителей, мои товарищи способны исходить речами об эгалитарном обществе и курить фимиам вождям французской, испанской и итальянской революций. Они обладают прекраснодушием и с радостью готовы принести себя в жертву родине. Но где их поступки? Где дела? Разве пламенное человеколюбие Радищева не должно было зажечь его собратий? Однако искры его гения падали на толщу крепостничества и угасали. Радищев надорвался в непосильной борьбе…»
Пестель не переставал ходить по комнате, и лицо его становилось все мрачнее. Он вспоминал долгие беседы с одним из первых членов «Союза Благоденствия», Николаем Тургеневым. С какой горечью тот восклицал: «Что за прелесть жить в сем хаосе унижения и мрака! У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость, одним словом все, что не позволяет земле превратиться в пространную пустыню или в вертеп разбойников. Когда же будет на нашей улице праздник? Душно! Душно…»
Перед Пестелем вставали образы пламенных патриотов, их страстные чаяния видеть Россию свободной, взлеты надежд и унылость безнадежности.
«Неужели прав был Капнист? — остановился в своих думах Пестель на разговоре с женихом сестры Сергея Муравьева. — Неужели прав был он, когда сказал, что наши прожекты немыслимы? „Допустим, мы совершим переворот, — говорил тогда Капнист. — Но ему последует не революция, а народный бунт… Наступит для России снова смутное время“.
Пестель прекрасно помнил, что он возражал Капнисту. Он говорил, что чем дольше русский народ будет скован рабством, тем страшнее будет этот бунт. Он напоминал своему оппоненту слова Радищева: «Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противостояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже развитию его противиться не сможет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечность. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрушении их, тем стремительнее они будут во мщении своем…»
«Как знать, — мыслил Пестель, — если бы императрица Анна, подстрекаемая своим любовником Бироном, не изорвала кондиций, ограничивающих ее самовластие, быть может, судьбы народа российского сложились бы по-иному. И я с моими единомышленниками не был бы подобен страждущему принцу Гамлету, дерзновенно усомнившемуся в добродетели своей матери. Разве мысль о том, что наша отчизна, быть может, страдает порочной склонностью к рабству и невежеству, не терзает наши сердца? А что, ежели пассивное недовольство властью станет губительной привычкой россиян?»
Пестель прислонился к оконному косяку и снова остановил глаза на голубой Венере, высоко сияющей в вечернем небе.
— Вы что же в темноте, Павел Иванович? — вдруг раздалось с порога.
Пестель вздрогнул.
— Неужели мечтаете? — входя, спросил Волконский.
Пестель почувствовал, как жарко стало лицу, но ответил
сдержанно:
— Я не умею мечтать, князь.
— В таком случае обдумываете, как положить под нози непокорных северян? — пошутил Волконский.
Но Пестель вдруг загорячился:
— Я знаю, что во мне видят честолюбца. В последнее мое пребывание в Петербурге я убедился, что даже Рылеев избегает полной со мной откровенности. В течение долгой беседы я пытался выведать от него, какое правление он полагает наиболее желательным для благоденствия нашего отечества. Я старался живо представить ему политическое самочувствие и англичанина, и американца, и испанца. А Рылеев все ускользал от прямого ответа, пока, наконец, полушутливо не заявил мне, что не прочь видеть в России императора, однако ж, с тем, чтобы власть оного не превышала власти президента.