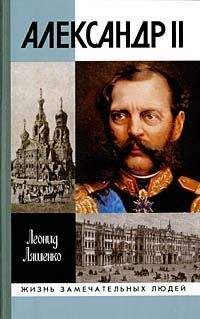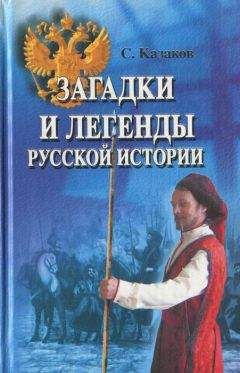Валентин Пикуль - Слово и дело
И так сказали они твердо. Тогда Григорьевичи всем скопом на стариков насели, а “маркиз” Лукич помогал им.
— Как тому не бывать? — кричали. — Ты в полку Преображенском подполковник, а князь Ванька — майором. И то учинить легко! Семеновцы тоже спорить не станут. Вспомни, как Екатерину Первую на престол подпихнули? Тогда тоже иные рыпались. Так их в окно бросили, и кто сел на престол? Катька и села… Так пущай будет на Руси Катерина вторая — из роду нашего!
— Да вы — одни на Руси, што ли? — сказал Михаил (губернатор).
— А коли канцлер Головкин и князь Дмитрий Голицын воспротивятся, — отвечали, — так мы их бить станем. Оно и получится!
Михаил Владимирович на это отвечал им:
— Что вы, робяты, врете? Совсем вы уже заврались…
— Да как я полку своему объявлю такое? — поддержал брата фельдмаршал. — На штыках своих же солдат и мне, старику, помирать страшно… Неслыханное дело затеваете вы Отступитесь!
Василий Лукич озлился, притопнул туфлей нарядной.
— Не хотите? — сказал. — Так мы и вас бить станем!
— Меня? Ах ты, гнида версальска… — И навис над буклями Лукича тяжелый жезл фельдмаршала. — Один раз вдарю, и никаких царей в башке не останется… Отступись, говорю я вам!
Долго еще спорили князья Григорьевичи, заодно с Лукичом, противу князей Владимировичей. Но честные старцы не сдавались на уговоры, и говорили в ответ разумно:
— Даже если б ваша Катька и венчана была, то конжурацию такую принять опасно. Петр Первый Катьку Скавронскую при животе своем короновал… Как-никак, а она — царица законна!
С тем и уехали. Фельдмаршал, когда в санки садился, брату своему признался — с тоской и горечью:
— Мы вот с тобой, Миша, претим им. А, глядишь, государь-то поправится, Катька-дура и впрямь станет царицей на нашу шею. Тогда — держись: князь Алексей с братьями так разнесут кости наши, что и ворон их не сыщет!
— Зато мы правду сказали, — отвечал брат. — И несбыточно их в чудеса престольные не сманивали… Плюнем!
Тем дело не кончилось. Долгорукие дождались, когда из Лефортова дядька царя вернется. Алексей Григорьевич вернулся, стал плакать — мол, царь совсем худ, как быть? Катьку же — не поймешь, как и называть: то ли высочество, то ли величество?
Василий Лукич (он многих умнее был) сомневаться начал.
— Не пропасть бы нам, — говорил. — Может, оставим? Но отец невесты окрысился на него.
— Чего оставлять-то? — кричал. — Престол — это тебе не ведро худое! Зарядил свое: оставим да оставим… Коли Катька на трон сядет, так тебе же, дураку, выгоды да прибытки станутся!
И вдруг.., сказал Сергей Григорьевич слова тихие:
— Вот ежели бы государь духовную дал, по которой можно было бы Катьку законной наследницей считать…
— Верно! — поддакнул Иван Григорьевич. — Тогда бы небось и Владимировичи упрямиться не стали.
Брат их, Алексей Григорьевич, глаз с потолка не сводил.
— Эка забота! — сказал он. — Коли только за тем нужда стала, так мы таких духовных целый воз сейчас напишем… Ты, Лукич, грамотей славный — садись и пиши.
— Моей руки письмо коряво, — уклонился дипломат.
Завещание от имени царя написал князь Сергей Григорьевич. И копию тут же сняли.
— А теперь-то что же делать нам? — призадумался Лукич. — Надо, чтобы царь подписал. Иначе силы бумага не имеет. Фальшива!
— А вот царь подпишет — тогда и фальши не скажется. Но князь Алексей Григорьевич стал руганью всех обливать:
— Еще чего! Жди, пока царь подпишет… Уж один-то лист мы сейчас сготовим… Где Ванька мой? Ты чего там в углу засел? Вылезай на свет божий. Ты под руку царя не раз уже писался… Выручай всех нас… Давай, милок. Во, перышко тебе! Макай его в чернила. Да покажи всем нам — как ты ловко за царя писаться умеешь…
Князь Иван, заплаканный, взял перо и одним махом вывел свою подпись.
— Спрячьте, тятенька, фальшь эту, — отцу посоветовал. — А второй лист мне дайте. Может, царь и сам еще подпишет?
На том и разошлись.
***Сын царевича Алексея, ненавистника иноземных новшеств, умирал во дворце Лефортовском, на слободе Немецкой. Рука умирающего императора лежала в руке вестфальского проходимца.
Остерман не покидал царя. Ничего не говорил — просто сидел.
Князь Иван Долгорукий ждал: может, уйдет барон?
Шуршала в кармане его кафтана бумага. Царем не подписанная.
Но Остерман никуда не вышел.
***Пробили полночь часы в Лефортовских палатах. Наступало 19 января 1730 года — день свадьбы. Алексей Григорьевич сам измучился и сына измучил:
— Ванька, подсунь бумагу-то… Может, и наскребет как!
— Да не выходит Остерман, батюшка. Я и сам рад бы!
— Следи, следи, Ванька… Когда-нибудь-то он выйдет?
— Боюсь, батюшка, что никогда…
Петр Второй рывком поднялся с подушек на острых локтях.
Прохрипела страшная маска лица:
— Сани запрягайте — еду к сестре!
И упал на подушки…
Были при нем в этот момент только двое: Остерман — с непроницаемым козырьком на глазах и фаворит — с фальшивым завещанием в кармане…
Опять забили часы половина первого ночи.
Мужеское колено дома Романовых пресеклось навсегда.
Россия начинала жить без царя.
ЭПИЛОГ
Как раз в этом 1730 году
"В селе Ключе, недалече от Ряжска, кузнец. Черная гроза прозываемый, зделал крылья из проволоки, надевал их, как рукава. На вострых концах надеты были перья самые мяхкие, как пух из ястребов и рыболовов, и по приличию на ноги такоже, как хвост, а на голову, как шапка, с длинными мяхкими перьями. Летал тако: мало дело ни высоко, ни низко. Устал и спустился на кровлю церкви, но поп крылья сжег, а его проклял”.
ЛЕТОПИСЬ ВТОРАЯ. БОЯРСКАЯ ПОРА
Была пора — боярская пора!
Теснилась знать в роскошные покои.
Былая знать минувшего двора,
Забытых дел померкшие герои…
М. Ю. ЛермонтовГлава 1
Полыхали костры на московских улицах. Бежали, крича, скороходы, и висло над первопрестольной дымное дрожащее зарево. Белели во мраке оскаленные морды лошадей.
Волновался народ. Москве не привыкать пить из чаши “перемен наверху”. Первый глоток — самый горький! — москвичам достается. Грамотеи книжные поминали убиение царевича в Угличе да Гришку Отрепьева. В толпе, тряся бородами, похаживали старики, кои не забыли еще бунтов стрелецких да голов сечение.
«Мужеское колено дома Романовых пресеклось навсегда…»
Ой, как бы не замутилась земля Русская! Жди беды, народ православный: начнутся смуты боярские. Лихолетье да пиры кровавые. Будет щука жрать щуку, давясь костями…
Чаще всего выкрикивали в толпе имя цесаревны:
— Елизавета — дщерь Петрова, вот ее и надо сажать!
***Князь Дмитрий Михайлович Голицын отошел от окна:
"Елизавета? Нет, только не Лизку…” Служки разоблачали после соборования членов Синода, к духовным подошел фельдмаршал Долгорукий:
— Персон синодальных просим поумешкать с уходом. Благо будет сейчас советование важное об избранье государя нового…
Дмитрий Голицын повернулся вдруг столь скоро, что с парика мятого пудра посыпалась.
— Братия! — закричал пронзительно. — За грехи великие и пороки, от иноземцев воспринятые, господь бог отнял у нас государя нашего… Сейчас же министрам верховным для совета тайного за мной следовать! Да велите звать вице-канцлера…
Но Остерман остался при теле мертвом, которое омывали дворцовые бабки. Сказал, что когда в гроб положат царя, тогда и придет… На пятки наступая, шепчась и толкаясь, особы первых классов пропускали министров. Гуськом из толпы выбрались вершители судеб России — верховники, от бессонья серые, небриты, заплаканы. Великий канцлер граф Голрвкин шибко сдал — била его потрясуха, еле ноги волок, и вели его под локотки двое: Василий Степанов да Анисим Маслов — секретари совета Верховного.
Дмитрий Голицын — уже от дверей — еще раз оглядел сановных. Глазищами — луп, луп, луп — своих выискивал. Пашка Ягужинский всех распихал, наперед вылез. Мол, вот он — я! Умен, горласт и самобытен: бери меня за собой… Но маститая власть посмотрела мимо, будто Пашки и не было. Голицын других людей поманил.
— Фельдмаршала Долгорукого и Голицына тож, — объявил князь Дмитрий, — а тако ж и тебя, Михаила Владимирович, — позвал он губернатора Сибири, — прошу на совет тайный идти, не чинясь…
Третий фельдмаршал России, князь Иван Трубецкой, сгоряча завыл от обиды горькой — несносной, боярской:
— Своих выгребаешь, князь Дмитрий! А нас — куды?.. Разве ж Трубецкие тебе не фамилия? Почто меня не берешь в Совет?
Но уже грохнула дверь за верховными. Ягужинский небрежения к особе своей тоже не ожидал. Однако надежд еще не терял. Стал он похаживать среди особ знатных и шумствовать.
— Доколе, — кричал Пашка, — нам цари головы сечь будут? Пора бы уняться. Не хотят министры меня слушать, а я бы сказал…