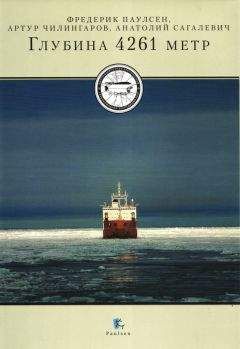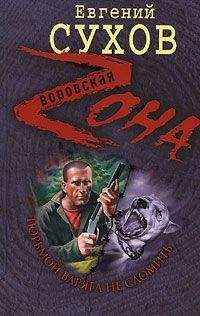Александр Башкуев - Призвание варяга (von Benckendorff)
Поэтому, когда он выдохся, я еле слышно прочел два "Посвященья Сестре". Матери этого странного, бледного юноши. Он слушал меня, раскрыв рот, а потом глухо, не стесняясь меня — зарыдал, закрывая лицо руками, чтобы я не видел, как он плачет.
А я и не видел, я смотрел в окно, на укрытую пеленой мелкого дождя Фонтанку за стальными решетками моего кабинета и курил тонкую трубку с плоской чашечкой голландского образца. Когда Гоголь выплакался, я налил ему стакан холодной чистой воды и спросил:
— Почему вы не прочли их?
— Я думал, то — личное. Не для чужих. А второе я услыхал только что. Верно, дядя не успел его переслать… А как вы про них знаете?
— В мой Особый отдел поступили все бумаги возможных Изменников… На стихах не было даты… Вам нужен подлинник?
Гоголь взволнованно закивал и я позвонил в колокольчик, чтоб из архива принесли "Личное Дело Изменника Яна Яновского.
Папка была пепельно-серого цвета, сплошь покрытая такой же пепельно-серой пылью. Листки, на коих Яновский писал стихи, были истлелыми и пожелтевшими. Руки Гоголя страшно дрожали, когда он перебирал эти бумаги.
Потом он, опять — весьма неприятной украдкой, бросил на меня взгляд, в коем было гораздо меньше былой ненависти и спросил:
— Ее не открывали лет десять. Вы переписали себе… эти стихи?
— Нет. Хорошие стихи я запоминаю с первого раза. Ваш второй дядя просто оболтус и жалкий бретер, но вам я должен сказать… Из Яна должен был вырасти Великий поэт… Мне жаль, что так вышло. Я не хотел его смерти.
Гоголь быстро кивнул и с опаской в голосе осведомился:
— Мне… Можно идти?
— Да. Извольте. Если что будет — несите ко мне. Для обычной цензуры Вы — неблагонадежный хохол, но… После меня они уже не смеют хоть что-то править.
Через пару лет мне принесли очередной опус Гоголя: "Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем". Все Третье Управление, вся жандармерия по полу катались от хохота.
Помните начало этой комедии: "Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие!" — и так далее. Что самое изумительное — наивный русский читатель, похоже и не понял, что именно имел в виду автор.
И только внимательные чтецы из цензуры мигом учуяли, что речь идет не просто о бекеше, но сизой жандармской бекеше с генеральскими смушками. А такая — одна на всю Россию. Тем более, что у меня голова и впрямь "редькой концом вниз"!
Я не смеялся, я ржал, как полковой жеребец, до коликов в животе, до слез с голубиное яйцо. Тем более, что 1833 году (за год до издания повести) всю Россию облетела моя ссора с Несселем, в ходе коей Нессельрод ни с того ни сего обвинил меня в том, что я — скрытый иудей по вере — торгую свиньями и свининой, покупая на них машины в Англии с Пруссией. (Вспомните повесть!) Я же отрезал ему, что никаких очередных торговых договоров с Австрией нет и не будет. Тогда он выкрикнул, что у меня на уме только "погусачить на плацу на прусский манер". А я в ответ сказал, что мы не будем нянчиться с прогнившей Австрией, "как дураки с писаной торбою.
Что началось после появления повести о двух Иванах! Мои жандармы и разведчики на всех балах только и развлекались тем, что ставили занятные сценки, в которых были, к примеру, такие фразы: — "А может ты и мясца хочешь?" — "Ой, как хочу, батюшка!" — "Ну так ступай, милая, с Богом!" — при сием намеки и телодвижения исполнителей были самыми непристойными, а нищенка почему-то обыкновенно бродила перед публикой со скипетром, державой и в огромных ботфортах…
Вот такую свинью подложил мне Гоголь за всю мою доброту! Впрочем, я сам люблю посмеяться, так что нисколько не обиделся на сей памфлет политический, тем более, что столь тонкий юмор, кроме жандармов, ни до кого не дошел!
Самая же занятная штука вышла, конечно же, с "Ревизором". Но прежде чем рассказать о ней, я должен вернуться к событиям 1813 года, ибо истории свойственно повторяться, а в свете одних событий другие часто обретают весьма забавный оттенок.
Битвы весны 1813 года показали, что Северная армия слишком мала, русские же застряли в Польше, скованные партизанами. Но и контрудар противника захлебнулся, — те силы, что подошли сюда из Италии и Германии оказались — второй эшелон и не решили задач.
Беда врага была в том, что его позиция обратилась в тришкин кафтан. Пред ним стоял грустный выбор, — дать бой в Германии, уравняв штуцера фузеями Жюно и сдать не только Испанию, но и юг Франции. Иль отойти за Рейн, бросив все против Веллингтона.
Я знаю немало людей, считавших, что у Бонапарта был выбор, я ж думаю, что в реальности выбора не было. Штука в том, что Жюно, обладая подавляющим огневым перевесом, третий год не мог угнаться за Веллингтоном.
Англия позже других занялась штуцерами (сказался ее исконный консерватизм) и к Испании они не поспели. Посему милый Артур, готовясь к португальскому делу, пустился на хитрость. Он отказался от артиллерии, дабы она не сковывала его (лобовая встреча Веллингтона с Жюно вышла бы ему боком). Он не взял кавалерию, ибо счел, что в местных горах не сыщет ей фуража (после дел Бонапарта в России сие решение — образец стратегической подготовки к грядущей кампании). В конце он отказался от тяжелой пехоты!
Как стало ясно, что Артур хочет спасти Испанию одной легкой пехотой, его подняли насмех. Не будь сей прожект оплачен со стороны, будущего герцога упекли бы в Бедлам за разжижение мозга, — легкая пехота неспособна брать чужих городов, иль дать большого сражения. Жюно, узнав — с какими силами идет Уэлсли (тогда еще просто — Уэлсли), поклялся, что "кончит с выскочкой за одно лето". Вместо того он получил герилью в масштабах, поражающих воображение.
Веллингтон не взял ни одного города и не подставился ни под один удар. Вместо того он горными тропами кружил перед вражьей позицией, склевывая один гарнизон за другим и снабжая оружием и боеприпасами испанских герильяс. Три года Жюно ловил своего визави, но как сие сделать, коль у врага нет ни лошадей, коих можно загнать в горный тупик, ни тяжких пушек?
Возвращаясь к событиям 1813 года, позвольте спросить, — мог ли Бонапарт поймать милого Артура за одно лето, если того не словили за целых три?! Великий корсиканец и не пытался. Так фузилеры Жюно стали прибывать на наш фронт…
Я не полководец и не Господь Бог. Я не верил, что удержу ветеранов Жюно. Да я и не пытался, — мои москвичи, да лютеране пока не имели ни сил, ни опыта для таких приключений. И еще я не мог вымолить дождь у Всевышнего. Зато…
Был жаркий солнечный день посреди знойного лета. Мы с моими людьми стояли у карты местности и обсуждали, что дальше. Тут к моему штабу подъехал верховой в странной форме. Я кивнул, принял от него смятый пакет и спросил по-немецки:
— Как добрались?" — на что странный визитер, не спешиваясь, отвечал на немецком с ужасным испанским акцентом:
— Дорога закрыта лишь для пехоты. Верхом можно пройти. Не стреляют, чтоб не выдать позиций", — с этими словами он мне откланялся и, повернув лошадь, ускакал по дороге на запад.
Я развернул пакет, пробежал глазами его содержимое, а потом бережно сложил его, поставил печать и задумчиво посмотрел на моих адъютантов. В те дни каждый человек был на счету и я не мог лишить себя любого из старых помощников. Но был средь них один юноша…
Он был из московских добровольцев, после Берлина и Познани командовал ротой и неплохо показал себя в деле. Снял же я его за содомию. Он нарушил мой запрет на эти дела, а я объявил по Северной армии "крестовый поход на сию мерзость.
А еще меня грыз червячок, — откуда узнали, что я буду в Ставке в день смерти Яновского и смогли так хорошо подготовиться? Я лишний раз просмотрел все дела и вдруг обнаружил, что сей человек в свое время крутил амуры с куафером-поляком. Тот путался в богемной среде и принял участие в артистических казнях наших людей. Я с чистым сердцем осудил его на смерть и он был не того пола, чтоб на постелях отработать прощение.
Когда я увидал сию запись, у меня раскрылись глаза. Константин был московским генерал-губернатором и у него, конечно ж, остались в Москве какие-то связи. В первую голову — мужеложеские. Я упомянул, что его выгнали из Москвы как раз за гадость сию и замаранные в той истории бежали за своим покровителем. Те ж сластолюбцы, коих миновала чаша сия, легли на дно и, по моим сведениям, их домогались поляки с угрозами доложить москвичам, коль несчастные не исполнят кой-каких дел. (Смею уверить — далеко не содомских!)
Я сразу приблизил сего глиномеса к себе. Он стал единственным пока неевреем среди моих адъютантов. (С жандармом бойтесь не столько опал, сколько милостей!)
Теперь я, поманив его пальцем, сказал:
— Надобно доставить это Барклаю. Лично и только ему.
Юноша взял пакет и… как в воду канул. Вновь я встретил его лишь на дыбе в парижском застенке. Французы выдали нам бывших наших и сего молодца не обошла чаша сия. Следователи успел потрясти его на сем аппарате и с руками жертвы все было кончено. Чтоб сие стало уроком, я вернул его в камеру. К уголовникам. Тех же я известил о пристрастиях моего юного друга и просил его хоть как-то утешить. К утру он умер. Больше в моем окружении нет содомитов.