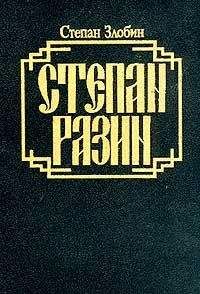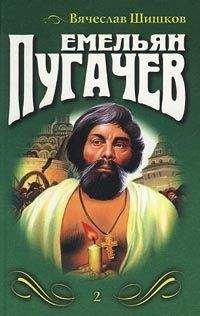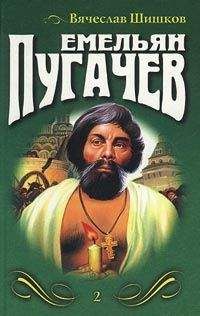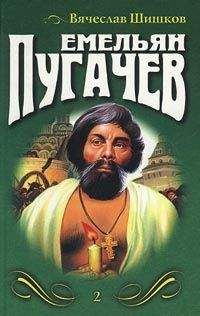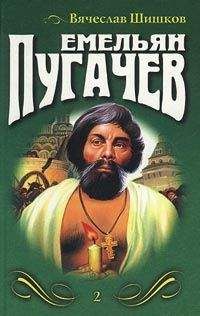Вячеслав Шишков - Емельян Пугачев, т.2
Возле нее сидел Горбатов, прикладывал к голове холодные компрессы. Лицо у нее восковое, кости да кожа, нос заострился. Дыхание прерывистое, взахлеб. Девочка пришла в себя, распахнула большие глаза и осмотрелась. Трошка стоит в красной рубашонке, Ермилка... – Ну, как нога-то, диковинка? – спросил Ермилка, улыбаясь во все широкое лицо. – Болит, нет?
Акулька пошевелила под одеялом той и другой ногой, сказала:
– Нет.
Ногу ей выпользовал костоправ, он ежедневно растирал ее и обкладывал густо намыленным мочалом.
– А где батюшка? – спросила девочка.
– За батюшкой побежали, сейчас придет.
– Ну, здравствуй, девочка Акулечка, здравствуй, милая! – проговорил вошедший Пугачев.
Трошка попятился от отца и вышел из палатки.
– Здравствуй, батюшка, светлый царь... – сказала Акулька шепотом, и в широко распахнутых глазах ее сразу показались слезы. – Грибков... тебе брала... да упала... вот видишь... нога...
– Оздоравливай, доченька, оздоравливай, – наклонясь над девочкой и гладя ее по голове, говорил Пугачев трогательным голосом. Он босиком и в одной рубахе с расстегнутым воротом: в чем был, в том и прибежал. – А то без тебя скука нам!
– Нет уж, – глядя пред собой в пустоту, сказала больная. – Маменька наказывала, ждет... В дорогу надо... В царстве небесном лучше...
Она попросила молока, выпила глоточка три. Ненила притащила свежепросольных огурцов и горячих оладий с медом. Горбатов тотчас прогнал ее. Девочку затошнило, стала она икать и снова впала в забытье...
– Умрет, – прошептал Емельян Иваныч, застегивая ворот рубахи. – Ну а где же лекарь-то?
– Нету, государь, – ответил Горбатов. – Во многие места посланы гонцы... Нету.
– Умрет, – повторил Пугачев, встряхнув головой, и, ссутулясь, вышел.
Он не ошибся. Через два дня девочки Акулечки не стало. Последние ее слова были:
– Я маленькая... Бог мне счастья не дал.
Два крестьянина – отец и сын – мастерили ей гроб, Миша Маленький под двумя липами на холме рыл могилу. Глаза его были мокрые, он пыхтел и прикрякивал. Все в лагере ходили, понурив головы.
Пугачев велел выдать розовой материи на обивку гроба. Позументов не было. Он приказал спороть их с одного из своих кафтанов.
Вся в цветах, покойница лежала в розовом гробу, возле палатки Пугачева. В ее руке лазоревый цветок. И никому не хотелось верить, что девочки Акулечки больше нет среди народа, что она неожиданно ушла из жизни, что над землей только тень ее, однако и эта тень скоро навсегда скроется в могиле. Останется лишь одно воспоминание о погасшем дитяти, но и оно, как ночной туман, развеется: время безостановочно взрывает глубоким плугом ниву жизни, перевертывая вверх корнями все цветы и травы, все воспоминания о прошлом, нетронутыми остаются лишь редчайшие дубы, которым по заслугам их даровано бессмертие...
Цветы... Много цветов... Гроб от самой земли засыпан полевыми цветами. Но еще больше народу, не одна тысяча людей собралась проводить покойницу в могилу, царскую любимицу.
Цветы и солнце, яркое, все еще горячее. Оно согревало своими лучами восковое похолодевшее лицо лежавшего во гробе мертвеца, восковую исхудавшую детскую руку с зажатым лазоревым цветком. Как знать, может быть, маленькой покойнице было приятно погреться на солнышке последний раз и чрез сомкнутые ввалившиеся веки в последний раз взглянуть на пылающее в синеве небес великое паникадило. И вот побелевшие губы девочки Акулечки под угревным солнцем как будто чуть-чуть заулыбались. Нет, это игра блуждающих, неверных светотеней. Нет, нет... Кровь в ее жилах навсегда остановилась, и улыбка на устах – простой обман: смерть припечатала своей неотвратимой печатью и глаза и губы. Вот она, благая смерть!.. В золотистой с багрянцем длинной мантии, с лицом бледным и вдохновенным, с глазами широкими, излучающими таинственный свет вечности, она стоит, словно в сказке, в изголовье розового гроба, опершись на косу с отточенным лезвием. Возле нее кружатся с безмолвным щебетом невидимые ласточки. И никто из живых не видит ни благой сказочной смерти с лучами вечности в глазах, ни порхающих ласточек. Их, может быть, видит любившая сказки девочка Акулечка да еще пьяненький отец Иван, давнишний знакомец зеленого змия и прочей чертовщины. С криком, рыданием, воплем, едва держась на ногах, он продирался чрез толпу к гробу. Его схватили, унесли в дальние кусты и там связали. Он без передыху шумел, что обманет смерть, что сам ляжет в Акулькину могилу, а девчонка-сирота пущай живет. В борьбе с вязавшими его людьми он ослабел, но все еще во всю мочь кричал: «Господи, побори борющие мя!» Однако его угомонили. «Плотию уснув, яко мертв...» – лишившись последних сил и засыпая, мямлил он.
Светило яркое солнце, порхали бабочки. С востока на запад двигалось по небесной пустыне белое крылатое облако. А Нениле казалось, что это ниспосланный Богом по праведную детскую душеньку белый ангел.
Панихиду служил старый-старый иеромонах из соседнего захудалого монастыря. Борода у него древняя, брови древние, голос старый, а голубые глаза молодые, лучистые. Он в черной траурной ризе с серебряным позументом, на голове черный клобук, на ногах березовые лапти. Служил он не торопясь, величественно и строго. Хор из двадцати казаков с Пустобаевым пел складно. Когда иеромонах, взмахивая кадилом и устремив взор к белому облачку на синем небе, стал возглашать: «Со святыми упокой, Господи, душу новопреставленной рабы твоея, отроковицы Акулины, и сотвори ей вечную память», – весь народ вместе с царем-батюшкой опустился на колени и трижды во всю грудь пропел: «Вечная па-а-амять».
Люди плакали. И не оттого только плакали, что жаль было девочку Акулечку, а заодно с ней где-то покинутых чад своих, а плакали потому, что вот пришла какая-то вещая минута, и все, все до единого, и атаманы, и монах-старик, и офицер Горбатов, вместе с царем-батюшкой, – все, все, как один человек, опустились на колени. И душевные родники сами собой у всех разверзлись... Что-то будет, какая судьба-участь ждет каждого?!
Когда гроб опустили в землю, начальник артиллерии Чумаков махнул платком: одна за другой грянули три пушки. На могиле поставили большой крест с надписью: «Здесь лежит всеми любимая девочка Акулина, без роду, без племени. Умерла в августе 1774 года, в армии государя Петра Третьего, при походе».
Этот холм под двумя старыми липами народ назвал «Акулькина могила».
– Вот больше и нет у нас Акулечки, – вздохнув, сказал Пугачев и скосоротился. – Сникла, как цветик на морозе...
И впервые за весь путь он вспомнил с беспокойством о своем Трошке, вспомнил и подумал: «Надо бы приглядеть за мальчонкой...»
Люди все еще продолжали стоять с опущенными головами. Затем начали молча расходиться.
В своем крестном пути от Оренбурга, чрез Башкирию, Казань, Саратов и другие города русский мятежный люд оставил при дорогах неисчислимое множество могил с крестами. То поистине был путь к мужицкой Голгофе – крестный путь!
Прошло время, кресты сгнили, могилы поросли бурьяном, сровнялись с землей и затерялись. И только «Акулькина могила» долго еще бытовала в памяти народной, как приметное урочище, как скорбная веха на большой дороге мужицкого царя.
4
В начале 1774 года Саратов почти весь выгорел и только с лета стал постепенно застраиваться. Большинство населения жило в землянках, в шалашах. Саратов – крупнейший город Астраханской губернии, в нем насчитывалось более 7000 жителей. Он расположен в котловине между тремя сопками, обходящими город полукругом. С севера над городом возвышается шихан, или гора Соколова, – около восьмидесяти сажен высоты. С юго-запада – меловая гора Лысая и далее – гора Алтынная.
Чтоб руководить новой распланировкой города, в Саратов прибыл астраханский губернатор генерал Кречетников. Кроме распланировки, у него было намерение привести Саратов в боевую готовность на тот случай, если б «злодейские толпы» метнулись в эту сторону. Но из Сената от князя Вяземского было получено весьма запоздалое распоряжение возвращаться губернатору в Астрахань, так как угроза для Саратова совершенно миновала: Пугачев вдребезги разбит под крепостью Татищевой, а ныне за ним гоняется по всей Башкирии неустрашимый Михельсон.
Уезжая в Астрахань, Кречетников «все правление воинских дел по городу» поручил коменданту полковнику Бошняку. Таким образом, Бошняк назначался единственным распорядителем по укреплению города и начальником всех войск, в нем находящихся.
Вот тут-то и начались всякие пререкания между начальствующими лицами. Так, управляющий конторой опекунства иностранных поселенцев Ладыженский по всему Саратову кричал, что он первое лицо в городе, что он крайне обижен губернатором, который предпочитает ему Бошняка, что он, наконец, бывший бригадир, а ныне носит чин статского советника и ни в коей мере не считает себя обязанным подчиняться какому-то полковнику Бошняку.