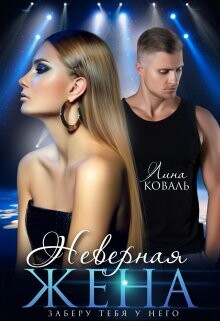Ольвия (ЛП) - Чемерис Валентин Лукич
И птицей кидалась целовать своего сына, моля богов, чтобы хоть он был счастлив…
Маленький Ясон рос быстро и уже на одиннадцатом месяце встал на ножки. Как же радовался Керикл! Даже на улицу его выносил, на землю ставил и, чтобы все видели, водил за ручку… Ясон смешно ковылял, падал, вставал и снова упрямо пытался идти. Аж сопел от упрямства… А когда Ясон побежал — впервые в своей жизни побежал, — Керикл, холодея, вспомнил уговор: как только сын пойдет — Лия свободна. Свободна от Керикла, от Ольвии. Свободна и может возвращаться домой… И в хмельную радость Керикла медленно и неумолимо вползала печаль… Страх потерять Лию не давал ему покоя. И хотелось поскорее дождаться того мига, когда сын пойдет, и, когда это случилось, испугался Керикл. С первыми самостоятельными шагами сына он утратит свое голубоглазое счастье. Ведь клялся он богами, клялся, что отпустит ее. Она свой уговор исполнила честно, а он… Он ее тоже не обманет.
А сын уже бегал по двору, да что там — и на улицу сам выбирался.
Как он смешно семенил толстенькими ножками! Как он радостно смеялся, как гордо восклицал:
— Ага, а я уже умею сам ходить, ага!..
И все у отца спрашивал:
— Правда, я умею лучше всех ходить, правда?
— Правда, сын, — вздыхал отец, — ты умеешь ходить лучше всех.
И хоть было тяжело, но все же он превозмог себя и первым заговорил о своем обещании:
— Ты давно не рабыня в городе, а теперь ты свободна совсем. Куда захочешь, туда и полетишь.
— А ты? — спрашивала она.
— А я… Я буду с сыном вспоминать тебя.
— Как вспоминать? — допытывалась Лия.
— А так, как вспоминают о своем счастье.
Лия умолкла и молчала день.
Всю ночь она проплакала. Керикл не мешал ей плакать: ее слезы — то слезы радости. Воля уже стучится в ее двери. Завтра утром он посадит ее на триеру, и прощайте, Керикл с Ясоном. Только во сны наши будешь прилетать, ласточка моя…
Утром Лия сказала:
— Я долго думала и… — Он трепетно ждал ее слов. — И никогда я тебя не покину, и никуда я от тебя не уеду. Ибо любовь — это и есть воля. Я люблю тебя, доброго и прекрасного душой, еще сильнее люблю сына, а больше мне ничего и не надо.
Он целовал ее руки и все умолял и умолял, чтобы она повторила свои слова. Она говорила еще и еще… И, как никогда, радостно напевала свою любимую песенку:
Прилетела ласточка
С ясной погодкою,
С ясной весною.
Грудка у ней белая,
Спинка чернёхонька…
И было у них еще два счастливых года.
Невероятно счастливых для Керикла лет, когда он говорил при всех о Лии:
— Моя дорогая и единственная женушка…
Глава третья
В «царстве теней»
Сразу за городом живых начиналось «царство теней» — некрополь. Последнее и вечное пристанище неугомонных, веселых ольвиополитов. Ох и много же собралось их здесь, в городе мертвых. В десять раз больше, чем в городе живых!
И растет некрополь день ото дня, ибо каждый белый день для кого-то оборачивается черной очередью: собирайся, прощайся, пора!..
И ничего не поделаешь, такова уж участь людей: из царства живых переселяться в царство мертвых, к родным, к отцам, к прадедам, к предкам, в вечность. Так было, так есть и так будет всегда, покуда солнце в небе сияет. Ибо такова воля богов, а потому — что поделать? — ольвиополиты провожали своих граждан в царство мертвых с философским спокойствием: все там будем! Рано или поздно, а каждому доведется глотнуть воды из подземной реки забвения и навеки забыть белый свет.
А места на том свете хватит всем, вот и растет некрополь день ото дня, ибо каждый белый день для кого-то оборачивается черной очередью, и неумолимая Ананка [18] постучит в порог своим страшным посохом: эй, живой! Собирайся, прощайся, пора! Место твое под солнцем уже нужно другому, тому, кто с первым криком рождения уже отправляется в дорогу жизни!
Что ж, пора — так пора!
И ольвиополиты собирались, прощались (если было время) и отправлялись в вечность.
В «царство теней» вел Последний Путь — широкая дорога, по которой веками живые провожали мертвых.
К жизни вела одна дорога, но как же много их ведет к смерти!
И в «царстве теней» словно земляные волны замерли и застыли навсегда. А вокруг — безымянные холмики, холмики, холмики… Холмики над истлевшим прахом первых ольвиополитов, тех, у кого уже и родни не осталось на белом свете. Ибо все, кто с ними жил — и друзья, и враги, — все уже поумирали. А нынешнее поколение ольвиополитов помнит лишь близких и родных. Но некрополь оберегают как священное и вечное место граждан счастливого города.
Не знали только ольвиополиты, что минет тысяча лет, и на их могилах, на их городе мертвых, вырастет село [19] живых. И будут живые — уже славяне, а не греки — возводить дома над мертвыми, засевать хлебом поля и сажать сады. И вишни на земле некрополя, на прахе ольвиополитов, будут буйно цвести по весне, и живые будут смеяться и плакать на мертвой земле, и юноши будут встречать девушек в вишневых садах и горячо их целовать, и будут здесь зачинать и рождать детей, будут здесь и умирать, ложась в землю рядом с прахом ольвиополитов.
А сады цветут на древнем некрополе, а нивы колосятся золотым хлебом, а жизнь идет — с радостями и печалями, со счастьем и бедой, — идет жизнь, и в этом, быть может, и есть вечность, и бессмертие рода людского, и сама жизнь на белом свете…
Неподалеку от Последнего Пути похоронил Керикл свою Лию.
Она заступилась за раба — совсем уже седого старика, которого на улице бил палкой хозяин, приговаривая:
— Будешь побыстрее поворачиваться, старая черепаха?! Будешь?! Или ты только к еде прыткий, а как до работы, так сразу ноги волочишь? Вот тебе!.. Вот!..
И лупил старика палкой по голове, и оттого белая борода раба начала алеть.
— Не смейте! — крикнула Лия, проходившая мимо. — Он же человек, а не скотина. К тому же старик.
— Не распускай язык, — злобно отозвался хозяин раба. — Ты такая же рабыня, как и мой лентяй. Хоть с тобой и спит полемарх. Прочь отсюда!..
И ударил ее палкой по голове.
И от этого удара, на глазах у всех, в груди ее будто оборвалась какая-то нить…
Лия вернулась в дом полемарха бледная, только губы дрожали. Она не проронила ни слова, легла, отказалась от еды и на третий день умерла, так и не разжав искусанных в кровь губ.
День выдался погожий, солнечный, когда хоронили Лию. Керикл в последний раз смотрел на свою жену и думал о том великом счастье, которое она ему подарила.
«Но счастье всегда ходит об руку с несчастьем, — горько думал он, утешая себя, и не мог утешить. — Кто был счастлив, тот непременно должен побыть и несчастливым. Ибо добро идет следом за злом, и наоборот. Как правда ходит с кривдою. Но я был счастлив, потому и горе приму как должное».
Яму вырыли глубокую, просторную. Дно устлали циновкой — вечным ложем тех, кто уходил в «царство теней».
Возле покойницы поставили, как и положено, посуду с едой, положили зеркальце и глиняный ковшик для питья.
Кулаки у Лии были сжаты, она и умерла со сжатыми кулаками, так ее и в яму положили. И уже в яме Керикл просунул ей между застывших, сжатых пальцев монетку.
— Это плата Харону, — тихо сказал он, — плата за то, что старик перевезет тебя на своей ладье через подземную реку забвения в «царство теней».
И накрыл ее своим плащом.
Ему подали руку, он выбрался из ямы, постоял со склоненной головой, а потом бросил на грудь Лии горсть земли.
И яму быстро засыпали, и в некрополе появился еще один холмик…
Пятнадцать лет минуло с тех пор.
Сидит Керикл в уютном дворике и тихо радуется: сын приезжает. Его стройный белокурый мальчик с голубыми глазами. Учился в Афинах разным наукам.
Если бы только Лия была жива…
Из некрополя возвращаются слуги.