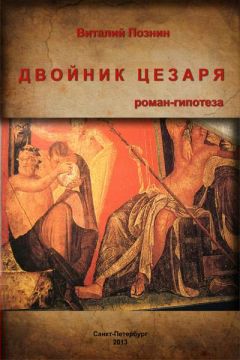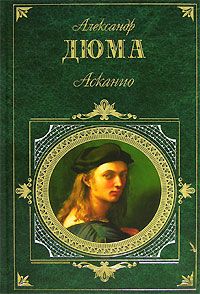Виталий Познин - Двойник Цезаря
Когда расстояние между войсками сократилось настолько, что можно было различать напряженные лица противников, среди которых люди и с той и с другой стороны начали узнавать своих знакомых, приятелей и даже родственников, у обеих сторон не выдержали нервы. Раздался единый истошный крик, от которого, казалось, содрогнулись горы, и первые ряды противников стремительно кинулись навстречу друг другу. Засверкали мечи, раздался звук металла, проклятия, стоны раненых, призывные крики сражающихся.
Никто из сторонников Катилины не дрогнул и не пытался бежать с поля боя, хотя с каждой минутой все больше ощущалось численное превосходство войск Петрея.
Сам Луций Сергий бился, как лев, бросаясь в то место, где намечался прорыв противника, успевая при этом командовать своими редеющими на глазах когортами.
Даже его недруги отдали должное тому, как он вел себя в свой последний час.
«Катилина, находясь с отрядом легко вооруженным в первом ряду, – напишет историк Гай Саллюстий, – то бросается на помощь тем, кого теснят, то заменяет раненных воинов свежими, зорко за всем следит, много бьется сам, часто разит врага, одновременно выполняя обязанности храброго солдата и хорошего полководца…
Когда же Катилина увидел, что его войска разбиты и что он остается лишь с незначительной кучкой людей, он, помня о своем происхождении и прежнем достоинстве, бросается в тесно сомкнутый строй врагов; здесь, сражаясь, он падает пронзенный…
Только тогда, когда сражение окончилось, можно было воочию убедиться, какая смелость и какая духовная мощь царили в армии Катилины. Ведь почти все покрыли своими мертвыми телами именно то место, которое каждый еще при жизни занял в начале сражения… Катилину с едва заметными признаками жизни нашли вдали от своих; на лице его выражалась все та же непреклонность характера, которой он отличался при жизни…»Эпилог. Hoc erat in fatis [26]
14 января 705 года от основания Рима (49 г. до н. э.). Цезарь форсировал пограничную реку Рубикон и повел к Риму свое войско. Этот день стал началом новой гражданской войны, которая закончилась полной победой Юлия Цезаря.
Постепенно Цезарь расчистил место для единовластного правления. Он был провозглашен пожизненным диктатором, получил титул императора, звание великого понтифика и народного трибуна в одном лице. Ему было дано право распоряжаться по своему усмотрению всеми государственными финансами и командовать всеми вооруженными силами страны. Подобно царям, он стал носить триумфальное одеяние: пурпурную тогу, красные сапоги, лавровый венок на голове, восседать на золотом кресле, как Юпитер, и единолично творить суд. Его профиль был изображен на чеканящихся монетах, и гению Цезаря римляне стали приносить жертвы так же, как богам.
Но, в отличие от других диктаторов, Юлий Цезарь не стал злоупотреблять неограниченной властью и был достаточно великодушен по отношению к своим противникам и оппонентам. И, может быть, поэтому пал жертвой своих недоброжелателей.
Он был убит в курии, где должно было состояться заседание сената, прямо под статуей Помпея, у которого Цезарь несколько лет назад перехватил власть (в этой мизансцене, по замыслу заговорщиков, тоже был свой символический смысл).
Когда перекрытый толпой заговорщиков и пронзенный их кинжалами, Юлий Цезарь рухнул ниц, большинство сенаторов решило, что с ним неожиданно случился очередной припадок падучей, которой он страдал с детства. Тем более что всем было известно, что с утра Гай Юлий испытывал недомогание. Но как только убийцы расступились и стало видно, что светлая туника Цезаря (пурпурная тога была сорвана с него во время нападения) медленно покрывается алыми пятнами, а по белому мрамору пола расползается кровавая лужа, сенаторов охватил мистический ужас. С дикими криками, отталкивая друг друга, они кинулись к выходу.
Глава заговорщиков Марк Брут попытался призвать всех к спокойствию, и уже начал было произносить подготовленную заранее речь, но его никто не слушал. Каждый стремился поскорее покинуть место, где среди бела дня произошло нечто непонятное и ужасное, где разыгралась какая-то нелепая сцена из гладиаторских представлений, перенесенная в священные стены курии.
На следующий день Марк Брут все же произнес свою речь, но не в сенате, а на форуме перед собравшимся там народом. Он ждал всеобщего ликования и одобрения своих действий, но народ, внимая его речам, угрюмо молчал и так же в молчаливом недоумении разошелся по домам.
Заговорщики надеялись, что на следующем заседании сената, в котором было немало людей, давно жаждавших избавиться от единовластия Цезаря, их поступок все же получит одобрение. Но и этого не случилось. Сенаторы молчали. Возможно, они опасались лишиться благ, вознаграждений и почестей, которые Цезарь раздавал им своей щедрой рукой. А может быть, их преследовал образ беспомощно распростертого на белом мраморе и истекающего кровью Гая Юлия.
Из создавшегося положения нашел выход Цицерон, предложивший компромиссный вариант: объявить всем участникам кровавого события широкую амнистию, но при этом, дабы не нарушать преемственности, оставить в силе все государственные распоряжения Цезаря, не ущемляющие гражданских свобод. Разбор оставшихся после Цезаря бумаг поручался его ближайшему сподвижнику консулу Марку Антонию…
Антоний тотчас принялся за дело, и уже через два дня завещание Цезаря было обнародовано. Согласно последней воле диктатора, основная часть его наследства передавалась внучатому племяннику Цезаря Августу Октавию, который после смерти завещателя должен был считаться его сыном и носить имя Август Октавиан Цезарь. В том случае если последний по каким либо причинам не может или не пожелает входить в наследование, то эта часть собственности переходила бы к Дециму Бруту и Марку Антонию. Затем следовал длинный перечень вознаграждений, которые должны были быть переданы ветеранам, легионерам и бедным гражданам Рима.
Народ, узнавший об очередной щедрости покойного правителя, преисполнился еще большей скорбью и печалью. В день прощания с Цезарем все двери домов были завешены траурной белой тканью, ступени посыпаны лепестками фиалок, и повсюду слышались стоны, рыдания, траурные звуки оркестров.
Когда же вспыхнул сложенный на форуме огромный погребальный костер, на который было возложено закутанное в пурпурную ткань тело Цезаря, и зазвучала траурная мелодия – ее играли одновременно все сошедшиеся здесь оркестры, – из тысяч глоток вырвался единый истошный крик, перешедший в истерические рыдания и вопли.
Оцепившие костер ветераны Цезаря, с которыми он не один год делил тяжести и лишения походной жизни, горечь поражений и радость побед, принялись ритмично постукивать мечами о камни мостовой, славя великого полководца и проклиная его убийц. Когда же пламя вздыбилось выше крыш, они стали бросать в пылающий костер свое оружие, верой и правдой служившее тому, кто уходил от них навсегда.
После этого в погребальный костер полетело все, что было под рукой или находилось поблизости: скамьи, кресла, корзины, части повозок, словом все, что могло гореть. Многие принялись рвать на себе одежды и тоже кидать их в костер. Всем хотелось продлить минуты скорбного прощания, не дать погаснуть огню, который, пока горел, соединял предававшихся горю людей с покидавшим их человеком, столько сделавшим во благо Рима.
Потрясенные этим зрелищем всеобщего горя и растущей ненависти к убийцам, заговорщики тайно, под покровом ночи покинули Рим, устремившись кто куда…
Антоний между тем продолжал просматривать бумаги, оставшиеся после Цезаря, и обнаружил там немало уже готовых законов, направленных на укрепление порядка и преодоление финансового кризиса.
Сенат не желал даже слышать ни о каких посмертных законах, но поскольку Антоний, как консул и как ближайший сподвижник Цезаря, автоматически становился его преемником, то он, продолжая традиции Цезаря, обратился напрямую к народу.
Народ единодушно одобрил все предложенные проекты, и после этого сенату не оставалось ничего другого, как подчиниться народному волеизъявлению…
В год гибели Цезаря Цицерону исполнилось ровно шестьдесят.
Увы, старость его трудно было назвать спокойной и благополучной. Проявленная им по отношению к оппозиции скороспелая жестокость вскоре бумерангом вернулась к нему самому, превратив его жизнь в череду испытаний, лишений и горестей.
Уже через несколько дней после умертвления в Мамертинской тюрьме пяти катилинариев один из избранных на следующий год народных трибунов поднял в сенате вопрос о незаконности смертной казни римских граждан. Произошло это в тот день, когда Цицерон, завершая магистратуру, отчитывался о своем правлении, воздавая себе хвалу за то, что он сохранил в Риме мир и покой, решительно, на корню задушив зловещие ростки преступного заговора.