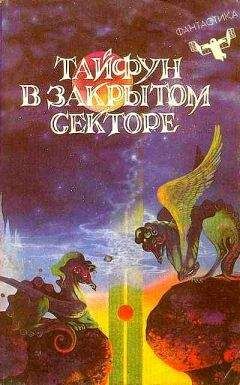Иван Полуянов - Одолень-трава
Только начала одолевать тоска. Не житье мне в Котласе. По тылам тому не житье, кто фронта хлебнул.
В хозяйстве тоже так. На пашне, на покосе вымотаешься, к вечеру ни рукой, ни ногой, зато в душе покой. Что мог, сделал, чего не мог — за это не судите, люди! Устаток мужику нужен, чтобы на мир прямо смотреть и ни перед кем не опускать глаз. Та усталость нужна, после которой понимаешь себя человеком, по земле ступаешь с достоинством: эй, дорогу, работник идет!
Работник, он всегда работник: в поле за плугом и в карауле под штыком.
Подался я на пристань. Шла погрузка. Часовой было сунулся, я тельняшку ему показал, рванув пуговки гимнастерки: «Своих не признал?» Недоглядел часовой — прыг я на отчалившую, заполненную бойцами баржу.
* * *Ольховые куртины, сыпавшие заржавленный лист, подтекли сине-белой дымкой. К этому смирному утру туманец легкий бывал в деревне очень кстати: пахло соломой, натрушенной с возов, на шершавые листья лопухов выступала испарина, и солнце плавало в облаке, на облаке и подымалось над деревней, суля погожий денек. Таким утром выйдешь на крыльцо: воздух легкий, ласковый, бодрящий, от него радостно и светло…
— Капуста тебе в нос, не высовывайся, — заорал Ширяев.
Я вздрогнул, унырнул головой под куст.
Заплывает низинный луг белой дымкой, но то не туман, то гарь пороховая.
— Короткими перебежками-и-и! — раздалась команда.
Ширяева будто пружина подкинула: пригнувшись, помчался луговиной. Резанул пулемет. Ширяев упал, откатился в сторону, в аккурат под прикрытие осоковых кочек.
Моя очередь на перебежку.
Чего уж, сам винтовку взял! Сорвался я с места. Бегу впритирку к кустам. Пули жигают вокруг, как осы. На, возьми, леший… Штыком задел за куст. На всем ходу меня развернуло в обратную сторону. Топчусь у куста. Бац! Залепило пулей — приклад в щепки.
Со злости на себя реветь готов. И-их, небось как Ширяев, то пули мимо, а как я, то и винтовка вдребезги.
Рябой дюжий парень с полами шинели, подоткнутыми за ремень по-бабьи, словно подол сарафана, плюхнулся рядом:
— Ляг! Не выставляйся!
— Чего сам не в свой взвод затесался? — я ему в ответ. — Указывает еще… Откуда такой?
— Мы-то? Из Вологды. Про Кирики-Улиты слыхал?
У парня зубы ляскают. Губами шлепает и чуток вроде подвывает. Раньше своей смерти он умер, вот что такое. Со страху чего не бывает.
Я лег.
— Закурить хошь?
— А есть? — обрадовался парень.
С табаком худо. С едой не лучше: вчера за весь день горячего не перепало, сухари выдали гнилые.
В перебежку я пустился с целенькой винтовкой. Расщепленный пулей приклад достался рябому парню из Кириков-Улит, что под Вологдой. Поменялись: я радехонек, и он доволен — может, удастся отсидеться под кустом? Не из храбрых рябой.
Скапливались наши цепи перед атакой. Еще бросок, еще, и мы достигли лощины.
Ошалевшая птаха перепархивала по ольхе, трясла хвостиком. «Убирайся, пулей зацепит!» — Только так подумал, птаха и свалилась с ветки между мной и Ширяевым.
Ширяев схватил ее в траве. Потрогал заскорузлым пальцем.
— Дала дуба, а крови нет.
Пушистый комочек на его ладони приоткрыл черный глазок. Ширяев хохотнул, ощерив кривые, прокуренные зубы:
— Федь, она живая!
Поворотившись; птичка втянула головку, устроившись на ладони, будто в гнезде.
— Соображает, — ухмыльнулся Ширяев. — То и я скажу: у каждого животного есть сметка. На фронте я начинал ездовым. На передовую едешь, не идут коняги. Молотишь кнутом — они знай ушами стригут и хвост промеж ног держат. Есть понятие: на передовой осколок и пулю схлопотать недолго. Есть понятие, но сознание… — Ширяев тряхнул головой. — Сознанья нет. Одному человеку дадено. Вот скажи: мы за что воюем?
Ширяев, сморгнув коричневыми веками, себе и ответил:
— За светлое зданье… во!
— Чего?
— Тетеха! Победим, так дворцов не будет и хижин, одни светлые зданья. Житуха! Социализм!
— Ты партийный, Ширяев?
— Вполне. Без билета, правда, однако вполне.
Вспухали над лугом нежные пушистые облачка: батарея белых перешла на шрапнель. Свинцовые горошины с визгом кромсали кусты и, разбрызгивая грязь, впивались в мокрую дернину.
Бойцы, задние в цепи, поодиночке и группами стали пятиться назад.
Бегут, назад бегут!
Ширяев помрачнел:
— Ума нет — ноги не выручат.
Птаху он неторопливо спрятал в широченном кармане шинели, для верности сунул туда же носовой платок.
— Меня держись, — сказал он и вскочил, распяливая рот в крике: — Отомстим за раны товарища Ленина… Ур-ра!
Пример в бою много значит: встали, кинулись в атаку наши цепи. С лугового откоса открылась деревня: гумна, клади снопов и льна, избы вдоль дороги. Так себе деревенька, без церкви даже.
Рваные зигзаги окопов опоясывали поле.
— Ур-ра, — валом валит в топоте, в свисте, гремит и ухает: — …а-а-а!
Показались из окопов зеленые шинели.
— Рукопашная… Люблю! — Ширяев подергивал плечами. Набекрень фуражка с суконным околышем, сохранившим след от кокарды, косолапят кривые в разношенных сапогах ноги.
— Меня держись, Федя!
Среди поля скрестила штыки пехота.
Сопенье, ругательства, чей-то предсмертный хрип.
Вьюном крутился Ширяев: «Люблю-ю!» С обнаженной шашкой вырвался к нему офицер, полоснул наотмашь. Ширяев изловчился подставить винтовку. Ж-жиг! — проехал клинок по металлу. Удар приклада в лицо опрокинул офицера, граненый штык вошел ему в живот. Привставая на цыпочки, офицер изогнулся, выронил шашку и обеими руками схватился за штык, будто хотел направить его точнее, выдыхал с облегчением: «А-ах!»
На меня налетел усатый солдат в новенькой, необмятой английской шинели, привычным приемом вышиб из рук винтовку. Где мне с таким совладать — поднимет на штык, и не пикну.
Подоспел Ширяев. Замахнулся — и опустил винтовку.
— Олекса? Ты?
Солдат в зеленой шинели обернулся:
— Ширяев? Ты?
— Я! — опомнился Ширяев. — Кидай оружие, гидра!
* * *Над походной кухней вкусный пар.
— Ешь, — потчевал Ширяев. — Промялся, плечи ломит, будто овин ржи вымолотил.
Есть люди, которых зовут лишь по фамилии. Ширяев из их числа. Он простяга. В дозор надо — Ширяев, в ночной караул — снова он. Не хватает Ширяева на то, чтобы отказаться, и пользуется ротная братия его покладистостью.
Взялся он меня опекать. Ведь не волоку я… опять не волоку, чтоб наравне-то быть со всеми! Надо же, винтовку угробил. Небось она денег стоит. Вояка же из меня, коли я в кусте штыком путаюсь.
— Хлебай, — приговаривал Ширяев. — Не суши ложку, добавить попросим.
На широкий лужок двуколка привезла убитых. Двое санитаров, берясь под плечи и за ноги, сгружали их рядком.
В одном из убитых я узнал рябого, у которого выменял винтовку на табак: нашла его смерть под кустом.
— Ширяев, а птичка? — спросил я. Кусок не лез в горло.
— Забыл! — воскликнул Ширяев. — Ну-ка, где ты, воструха?
Он извлек ее из шинели: помята, но жива. Помаргивала, прижавшись к ладони Ширяева, сложенной ковшиком.
— Коготками щекочет, — распускал Ширяев морщины по щекам и вискам. — Накормим? Хлеб она жрет?
Пригнали пленных рыть братскую могилу. С них поснимали поясные ремни, шинели. Давешний знакомец, чуть было не запоровший меня штыком, лишился и обуви: добротные, коричневой кожи, с железными подковками американские ботинки на Ширяеве.
— С Олексой мы земляки. Из Устюга оба. Через дорогу жили, — гладил Ширяев птаху по головке. — Во второй роте Никита Худяков так брата родного встретил.
— Пусти ее, — сказал я о птичке. — Пускай летит.
* * *Митинг в полку. Зачитывается приказ № 93, подписанный Павлином Виноградовым.
Враг на Двине остановлен. Тем не менее обороной войну не выиграть. У белых английские канонерки и 40 самолетов в Двинском Березнике. Подпирают белых батальоны 389 американского и шотландского королевского полков… Так даешь Березник! Вагу даешь!
Крепко намагничивал бойцов комиссар из Вологды. С головы до пят в черной коже, галифе и то хромовые. Бородка клинышком, пенсне на шнурке.
— Гидра мирового империализма подняла меч на завоевание революции. Красные орлы, утопим в Белом море свору насильников и поработителей!
Вызвали меня. Стою я пред строем, заголил подол гимнастерки…
— Вот, — касался холодный палец моей спины. — Вот что несет народу Антанта!
Было зябко, было мне стыдно — поротому, принародно обесчещенному… Павлин Федорович небось не выставил бы, чтоб рубцы-то казать: сам был поротый, и чуткость у него есть, у каторжанина.
— Даешь Вагу! — потрясали бойцы винтовками. — Даешь Березник!
Чего уж… Может, так оно и надо: мне рубцы каманской плети им показывать?
Утро 8 сентября 1918 года выдалось холодным. Проглянувшее было солнце снова затянули мутные тучи. Заряды дождя полосовали речные плесы.