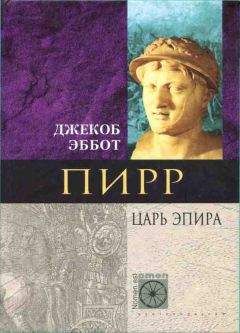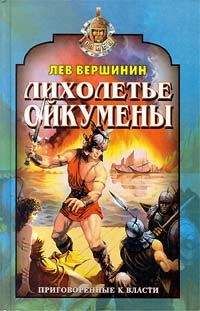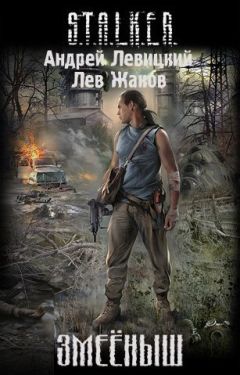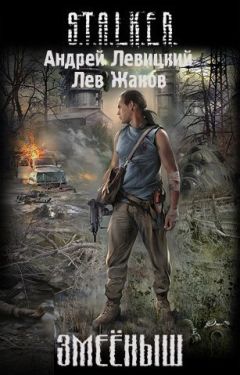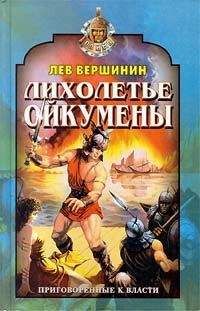Геннадий Прашкевич - Тайна подземного зверя
Ларька отмахивался:
– Чего ты знаешь, Микуня?
Бубнил негромко, хозяйственно:
– Холст хрящ, толстой, крашеный… Малых колокольцев на бахромичных кутазах, десять… Смотри, Микуня, кутазы-шнуры, кисть какая на них… Рубаха золотцом шитая, богатая… Для какого князца дикующего… Они любят, чтоб блестело… А вот рубаха пестрядиная и крашенины два лоскута… Смотри, Микуня, как холст лощен, как он синей синего…
– Ну, вот изловим зверя, – никак не мог успокоиться Микуня. – Ну, даже посадим на чепь. А как беречь большого?
Ужаснулся:
– И чепи такой нет!
Вспомнил, пожаловался горестно:
– У меня, было, соболь бежал с серебряной чепью прямо на шее, а тут носорукий! Да за что его зацепить? Он же свернет! Он сволочет любую ондушку.
– Еще три котла красной меди… – хозяйственно бубнил Ларька. – Полкосяка мыла простого, всего на пять рублев… Полстопы бумаги писчей… Шуба одевальная, две пешнишки…
– Это с пешнишкой-то на носорукого? – по-своему понимал Микуня.
Пугался немыслимо:
– Помяс говорит, что на таком звере сала на три пальца. Как такого пешнишкой?
Загорался от внезапной мысли:
– Из пищали надо бить зверя! У нас три пищали! Все изготовить и бить из всех!
Ларька возмущался:
– Нас за живым зверем отправили!
И снова перечислял хозяйственно и любовно:
– Еще пять кафтанов ношеных шубных… Новые вареги – всего десять пар… Житие Ефрема Сирина – книга…
Сам удивился:
– Микуня, это ты положил?
– Ты что говоришь! – испугался Микуня.
– Оставь Микуню, то моя книга, – кивнул Елфимка, попов сын.
– Зачем тебе?
– Очищать душу.
– Еще уледницы новые, десять пар… Кремешки московские, алтын на двадцать… Пуд свечей чорных, пуд восковых…
Прислушиваясь к голосам, Свешников думал о своем. Вот странная баба. Зачем приходила? Лисай говорит, что умом слаба, тронулась, но ведь передвигается по пустой сендухе, видно, что не кружит по одному месту.
И голос как чистое серебро.
Мэнэрик.
Самоядь страдает такой болезнью.
Но как сильно надо испугать, чтобы все дикующие вздрогнули, все вместе полезли на дерево? Кто искалечил бабу? Вор Шохин, он же Фимка? Или вор Сенька Песок?
Прислушался.
Косой негромко жаловался Микуне:
– Я, Микуня, раньше совсем как человек жил. Я коров держал, слышь, Микуня? Ты вот дурной, а я сильно мучился с одной коровой. Поставлю во двор, а она уходит ночью. Уходит и уходит, ничего с ней не сделать, только ищи ее. Хорошо, сосед помог. Однажды сказал: слышь, Косой. Меня уже тогда прозвали Косым. Однажды сказал: слышь, Косой, есть тут у нас один русский старик, ты сильно попроси его, он поможет. Ну, я к старику. Сильно просил. Прямо сказал: пособи, а то уходит со двора корова. Ну, уходит и уходит, ну, совсем измучила. Тогда русский старик сказал: «Да ну, это пустое дело». Подошел и два раза прутиком стегнул корову по голове. С той самой поры, как рукой сняло, перестала уходить. Почему так?
Ларька возмущенно вскрикнул:
– Опять книга!
– Ты там еще «Октоих» найдешь в борошнишке, – смиренно отозвался из угла сын попов. – Это все книги нужные. Я каждую вместе с мяхкой рухлядью хочу пожаловать в какой монастырь. И деньгами положу на сорокоуст, в сенаник, чтобы вспоминали всегда имя мое да доброго попа Спиридона.
Объяснил:
– Премногим обязан доброму попу.
Странно было слышать такое за тысячу верст от жилых мест. Свешников даже глаза прикрыл. А Косой пожаловался:
– Я, Микуня, плыл однораз по Лене. Река великая, берегов никаких не видно. В ночи на реке прямо с деревянного коча коробейка у меня, у сироты, пропала. Ну, стояла под бетью, как сейчас помню, стояла! И пропала. Вот как не было ее. А всего один только человек сходил ночью с коча. У какого-то острожка, где и стоять на стали. Подобрали его лодкой. А сам был невелик собою, вертляв. Ухо оттопыренное, как у сендушного волка. Теперь думаю задним числом, что был то Сенька Песок.
Голоса у казаков хриплые, грубые. А вот у бабы Чудэ, как ручеек, журчал.
– Мне бы землицы. Ох, хорошей бы мне землицы. Жирной, черной, своей, – душевно тосковал Косой. – Я ведь, пока не начал гулять, на землице жил. А в сендухе только грязь, няша. А под жидкой няшей лед вечный. Только носорукому и валяться, у него сала на три пальца.
Совсем пожалел себя:
– Мне бы хорошей живой землицы. Длиннику чтобы по осьмидесяти сажен да поперешнику по сорок. Как в Даурах, к примеру. Там рожь сеют по десять пудов, даже репа растет.
– Еще сума медвежья… – все так же ровно бубнил хозяйственный Ларька. – Тышь шесть одекую синего, мелкого… Этот одекуй я сам брал, – похвастался, – рублев на пять с алтыном… Еще полог держаной…
Поднял голову – русый, широкоскулый. Подмигнул подслеповатому Микуне:
– Писаные придут, всякому добру обрадуются. Они, Микуня, жадные до блестящего. Увидят бисер, начнут выметывать богатую мяхкую рухлядь. Всего нам хватит.
– А ты, Лисай, – подмигнул Ларька прикорнувшему в углу помясу, – ты тоже не трясись. Ты лучше хорошенько думай. Ты один бегал по сендухе, тряс богатыми соболями, а почему-то говоришь, что нет у тебя ничего.
– Оставь Лисая, – строго заметил сын попов. – Ему сейчас молитва нужна. Может, пост. Он неправильно жил и носоручиною питался.
Глухо.
Обедали просто.
Вяленая оленина, жидкая болтушка из ржаной муки, квашеная черемша из запасов помяса. Посыпая мясо солью, Лисай шептал:
– Да не сами себе будем враги и уготоваем вечныя муки… И где не впадем врагов наших нечестивых руки…
Щурился, вздрагивал:
– Всякие есть травки на свете. Такая даже есть, зовут ласково агагатка. Вышиною растет немного, но все прутиком, прутиком. Ее рвешь, кожуру снимешь, а середку переплетешь таловым лыком. Потом подсуши на солнышке. И бело и сладко. Прямо сахар.
Дверь хлопнула.
– Сахар, говоришь? – Гришка Лоскут, ноздри наружу, презрительно усмехнулся, бросил на скамью шапку.
– Сахар?
Казаки подняли головы, а помяс съежился.
– Я за бабой Чудэ в упор ехал, – с обидой в голосе объяснил Гришка. – Долго ехал. Присматривался всяко. И вот что понял, Лисай.
Назвал Лисая, а обернулся к Свешникову:
– Так понял, что дикующая баба знает по-русски. Сама может говорить, только не хочет. Ты ей сказал что-то такое, отчего она не захотела говорить по-русски. Ты будто подсказал ей не понимать нас. Да?
Уставился на побледневшего помяса:
– Она сперва все понимала и могла отвечать, но ты подсказал ей. Неправильно подсказал, да? Она мне говорила всякие русские слова. Оборачивалась и говорила. А потом сказала по своему. Но у меня такая память, Лисай, что я даже нерусские слова помню.
Взглянул на помяса угрожающе.
Чуть не по слогам повторил запомнившиеся ему слова:
– Тэт мутин хэлтэйэ. Вот так. Точно так. Я каждую букву запомнил. И не говори, Лисай, что нет таких слов. – Через стол дотянулся до помяса, сильной рукой рванул на себя: – Перетолмачь, Лисай!
Помяс в ужасе отпрянул.
– Тэт мутин халтэйэ? – заговорил быстро, трясясь. – Ну, такое сказала. Всякое может сказать. У нее мэнэрик, болезнь. Тэт мутин халтэйэ? Да это она тебе так сказала, что не надо тебе за ней ехать. Она, мол, еще сама приедет. А потом и ты к ней придешь.
Казаки заржали.
– Как приду? К дикующей? – обиделся Гришка.
– А то! – ржали, веселились казаки.
Гришка недобро усмехнулся, открыл рот, но сказать ничего не успел, потому что хлопнула тяжелая дверь и в облаке холода ввалился в избу озябший, продутый ветром, но довольный собой Ганька Питухин. Шумно хлопнул мохнатой шапкой об стол:
– Ой, Лисай, что скажу!
Казаки, радуясь, повернули головы.
Ганька, принюхиваясь к вкусным запахам, рвущимся из котла, пояснил:
– Твоя правда, Степан. Внизу под самым берегом есть плоское место. Вроде как плотбище. Снег сдувает, рядом открытая полынья. Весной, наверное, затопляет все. А летом выносит дерево всякое. Ну, вот, Степан, плот там. Ты правильно увидел. Плот там связан из сухих оследин. На такой плот хоть избу с печью, далеко можно уплыть. Хоть до ледовитого моря. А на том плоту, слышь, Лисай? – Ганька нехорошо подмигнул. – На том плоту устроены вместительные лари. И один уже не пуст. В нем плотно уложен хороший зуб носоручий. А вот другой пуст… Я так думаю, что пока… А, Лисай? Не ошибаюсь? Почему другой пуст?
Дерзко взлохматил большую голову:
– Хочешь нас, сирот, бросить в сендухе?
– Да как бросить? Да не хочу! – в великом испуге защищался помяс. Голая голова налилась кровью. – Тут лед кругом, как брошу? А плот строил для будущего! Долго собирал дерево к дереву. А коли придется, вместе поплывем. Вот наступит лето, поднимется вода, вместе и поплывем.
– А зверь? – невольно спросил Свешников.
– А что Лисаю зверь? – хохотнул довольный Питухин. – У него другое на уме. Правда, Лисай?
Подмигнул:
– Для чего там пустой ларь?
Дотянулся тяжелой рукой до совсем съежившегося помяса: