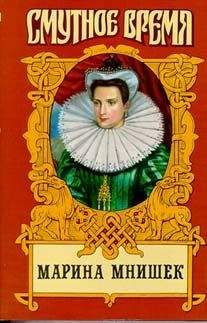Николай Коробков - Скиф
— Может быть, и твою поддержку моих ходатайств? — вставил Адриан.
— Хорошо. Так вот — я посылаю его, главным образом, за деньгами; но когда я их получу? Обращаться к здешним банкирам неудобно...
— И не следует, конечно, — сказал Адриан, — я счел бы это за оскорбление. Тебе достаточно прислать моему казначею и он выдаст нужную сумму.
Люций поблагодарил. Желая прекратить разговор о политике и денежных делах, он стал говорить о необычайной роскоши виллы Адриана. Польщенный хозяин не удержался от желания похвастаться.
— Когда я вспоминаю мой столичный дом, эта вилла кажется мне жалкой хижиной. Надеюсь, что когда мы оба вернемся в Рим, ты навестишь меня там. В честь тебя будет устроен пир, который удивит даже Город[43].
В дверях показался раб.
— Господин, тебя желает видеть жрец Эксандр, сын Гераклида.
— Ты разрешишь мне принять его в твоем присутствии? — обратился к претору Адриан. — Это важный местный сановник и интересный старик. Ты увидишь сам. А его дочь — первая красавица Тавриды.
Люций наклонил голову, и Адриан приказав ввести нового гостя, поддерживаемый рабами, поднялся с ложа, чтобы встретить жреца.
Это был высокий человек в длинной белой одежде, очень простой, с широкими, правильно падавшими складками.
Люций с любопытством посмотрел в его живые черные глаза, этот человек мог быть ему полезен, — он пользовался большим влиянием в Городском Совете.
Хозяин познакомил гостей.
— Эксандр, — сказал он, — достойнейший из граждан Херсонеса, поэтому на его долю приходится очень много огорчений. Он стоически переносит свои несчастья, но несчастия города приводят его почти в отчаяние.
Разговор, естественно, перешел на военные дела Херсонеса, столкновения с кочевниками, отношение к понтийскому царству и римлянам. Эксандр говорил мало, видимо желая выслушать мнения Люция. Он задал ему несколько вопросов о намерениях римлян, выразил мысль о единстве эллинской и римской культуры.
Хорошо знакомый с положением внутренних дел города, Люций догадался о причине посещения жреца: «Вероятно, он ведет переговоры о займе для города. Финансы Херсонеса очень запутаны...»
Претор считал, что подобное положение облегчит политику римлян и решил, что займа не следует допускать. Чем более стеснен Херсонес, тем легче будет вести с ним переговоры, которые Люций думал начать через некоторое время. Он решил остаться до отъезда Эксандра и затем переговорить с Адрианом: «Если этот спекулянт не пожелает отказаться от своих банковских операций, можно будет написать в Рим и ему придется навсегда оставить мысль о возвращении в столицу и потерять все свои имения в италийских пределах...»
Размышляя об этом, Люций прислушивался к разговору и иногда вставлял свои замечания, мельком взглядывая на самоуверенные маленькие глазки хозяина, скрытые опухшими веками под тяжелым наплывом лба. Эксандр, по видимому, не собирался переходить к деловым вопросам и придавал разговору общий характер. Они беседовали о счастье. Сначала с философской точки зрения, потом в практическом приложении.
— Самым счастливым человеком, которого знал Солон, — говорил Эксандр, — был афинянин Теллус. Он был гражданином благополучного города, имел красивых и добрых детей и дожил до того времени, когда у него явились и благополучно выросли внуки; кроме того, средства к жизни у него были совершенно достаточные и, наконец, жизнь его завершилась прекрасно — во время битвы афинян с соседними элевтинцами он сражался, содействовал победе своих и умер славной смертью. Афиняне похоронили его на общественный счет на том месте, где он был убит, и чтили его память.
Эксандр неторопливо поправил свою холеную седую бороду и обратился к Люцию:
— Разве может кто-нибудь не согласиться с Гиппиасом, который еще во времена Платона говорил: «Самое лучшее для каждого человека во все времена и во всяком месте это быть богатым, здоровым, иметь значение среди своих сородичей, дожить до старости и, воздав, как надлежит, последние почести своим родителям, умереть и быть погребенным своими потомками и с тем же почетом»[44]. Истинное счастье заключается в том, чтобы жить просто и достойно.
Разговор казался Люцию занимательным, но Адриан, видимо, начинал скучать. Он опять стал рассказывать о своей римской жизни, о своей скуке и своих поварах. Люций спросил его, сколько он имеет рабов, и, не дожидаясь ответа, обратился к Эксандру:
— Мы, римляне, окружаем себя множеством совершенно ненужных нам людей; в сущности нам было бы совершенно достаточно одной десятой того количества, которое мы имеем. Такая масса рабов является даже угрозой для государственного порядка. Вы, эллины, гораздо благоразумнее нас в этом отношении.
Жрец улыбнулся.
— Причина нашего благоразумия заключается больше всего в нашей бедности. Но сам я вполне согласен с тобой, достойный претор. Я думаю, что раб собственность такого рода, что обладание ей несет много затруднений. Опыт показывал это не раз: мы наблюдали бедствия, постигшие государства, где имеется много рабов, говорящих на одном и том же языке. Достаточно, наконец, вспомнить о событиях в твоей стране, где беглые рабы неоднократно угрожали своим господам. Все это лучшее доказательство справедливости моих опасений. Мы часто даже не знаем, как правильнее поступать в подобных случаях.
Я, со своей стороны, вижу только два средства: прежде всего, не иметь рабов своей национальности, а лучше всего иностранных и говорящих на разных языках, и, во-вторых, обходиться с ними, по возможности лучше, не только ради их самих, но еще и в наших собственных интересах[45].
— Совершенно с тобой не согласен, — возразил Адриан, — Рабы тем более опасны, чем лучше обращение с ними. Их можно сдерживать только жестокостью. Ведь раб по самой своей природе — преступник. Он является нашей собственностью, нашей вещью и в то же время всегда стремится к свободе, значит покушается на наше право собственности. Что же касается до рабских восстаний, то, уж конечно, не нам, римлянам, бояться их. Каждый бунт рабов лишний раз показывает им, как велика мощь римского оружия и римских законов. После того как несколько тысяч бунтовщиков бывает распято на крестах, сожжено или засечено плетьми, остальные делаются более покорными, чем раньше. Во всем этом Люций, вероятно, согласится со мной?
— С тем, что римские законы и римское оружие могущественны и побеждают все, что становится на их дороге, я, конечно, согласен, но жестокость считаю излишней. Нужна только разумная строгость. А это близко к справедливости и закону. В этом заключаются главные принципы нашей государственности.
Люций взял чашу разбавленного водою вина и отпил несколько глотков замороженного напитка.
— ... Но, конечно, не должно быть никакого попустительства, — продолжал он. — Если мы считаем какой-либо институт нужным и справедливым, мы поддерживаем его и никому не позволим на него покушаться. А в справедливости и пользе рабства никто не сомневается. Достойный Эксандр, вероятно, лучше меня помнит мнение Аристотеля по этому вопросу. Этот великий философ считал рабство таким же естественным явлением, как и государство. Есть люди, доказывал он, которые по природе своей только и могут быть рабами. Ведь если люди настолько разнятся между собою, насколько тело от души или животное от человека, то очевидно, что некоторые по природе своей свободны, а другие — рабы по природе. Вместе с тем, очевидно и то, что последние должны служить первым. Это, наконец, необходимо для того, чтобы граждане могли заниматься свойственными им делами: военной охраной государства, судом и управлением, искусствами и наукой, — для всего этого нужно иметь досуг и, следовательно, они должны быть свободны от других занятий, в частности от физического труда; все это и должны за них делать рабы.
— Конечно, — сказал Эксандр, — едва ли кто-нибудь станет оспаривать эти положения… Но ведь нельзя забывать, что рабами часто делаются люди, которые раньше не только были свободны, но и занимали видное общественное положение. Наконец, мы знаем между ними немало мыслителей.
Адриан засмеялся.
— У меня есть раб-философ; я заплатил за него громадную сумму. Но он ничем не лучше других рабов и требует не менее строгого обращения.
Вдруг Люций оглянулся и попросил разрешения позвать своего секретаря, оставшегося в остиуме.
— Иной раз во время разговора я вспоминаю что-нибудь и, чтобы не забыть, приказываю записывать это. Но я не буду мешать вашей беседе.
Он отошел, сел в стороне и вполголоса стал диктовать явившемуся секретарю.
Между тем Эксандр встал, собираясь уходить. Люций дружески попрощался с ним и выразил надежду еще не раз его видеть.
Оставшись наедине с Адрианом, претор спросил его, не ведет ли он каких-нибудь денежных дел с Херсонесом.
— Я должен тебя предупредить, — добавил он, — что город находится накануне финансового и государственного краха. Никакие займы ему не помогут. В самом недалеком будущем он обратится в провинцию одного из могущественных государств. Таким образом, тот, кто стал бы поддерживать его, не только потеряет свои деньги, но и окажется враждебным тому, кто подчинит себе Херсонес.