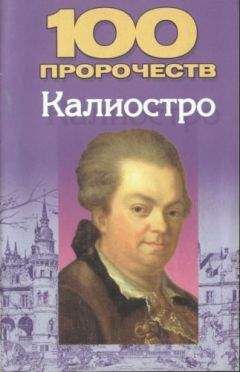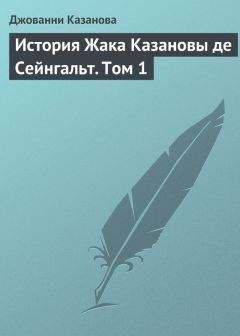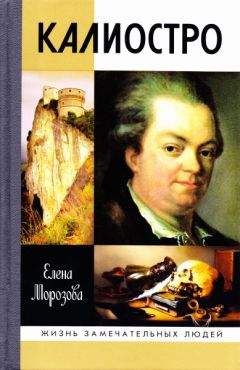Ёжи Журек - Казанова
— Чего же ваш волк в таком случае добивается?
— Славы. И она у него есть. Мы обеспечиваем ему эту славу. А взамен поддерживаем относительное спокойствие на границе.
— Спокойствием это можно назвать только при очень богатом воображении.
— Согласен. Назовем это контролируемой напряженностью. Нам, видите ли, не очень-то на руку расправа с Зарембой, или как там его на самом деле зовут. Это бы только повредило репутации короля, которому вовсе не хочется прослыть тираном. Да и нам бы не поздоровилось. В награду за доблесть нас бы отправили на Кавказ — драться с горцами, а сюда прислали какой-нибудь жалкий гарнизон.
Слова поручика ничуть не успокаивали Казанову, да и его самого, по-видимому, тоже: он говорил все громче и взволнованнее.
— Не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете.
Поручик еще больше разгорячился, он уже почти кричал:
— Вы, иностранцы, не желаете нас понять, выдумываете про Польшу и Россию всякие небылицы.
— Чего уж тут понимать — поляки вас ненавидят, и не без оснований.
Офицер резко привстал, быть может, с намерением броситься на обидчика, но закашлялся, сник и умолк. Когда же снова заговорил, в его голосе не было и следа прежней запальчивости.
— Ненавидят, считаете. Возможно. Но, пожалуй, не больше, чем друг друга. Думаете, Заремба воюет с нами, с Россией? Нет, он борется с собственным государем, которому мы помогаем, как и его единомышленники, и коронное войско. Получается, для таких Заремб, что мы, что польские сторонники короля — один черт. Это братоубийственная война, поляк дерется с поляком, вот оно что.
— Ваши доводы весьма убедительны. Стало быть, вы поляк?
— Да. С моей точки зрения.
Поручик напомнил Казанове Куца с его парадоксальными суждениями и поступками. И вдруг, словно в подтверждение этому, отгрыз кончик сигары, сунул в рот и принялся энергично жевать. Н-да… Пора привести его в чувство.
— Тогда чего же вы боитесь, поручик? Свой среди своих…
Офицер ответил не сразу. Джакомо уже хотел спросить про графиню: какова ее роль во всем этом, но не успел — его собеседник запихнул в рот еще кусок сигары, скривился, но ни крошки не выплюнул.
— Боюсь, в моих рассуждениях есть слабые места. Достаточно небольшого перекоса — и равновесию конец. Если Заремба уверует в свою звезду… Он никогда большим умом не отличался. Эти немцы… О контрабанде оружия мы не договаривались. Словом, если я ошибаюсь, дела наши плохи.
— Меня попрошу не припутывать. — Неужто этот тип полагает, что он позволит поставить себя на одну доску с заурядным офицеришкой, — себя, гражданина иностранного государства, которое не посягает ни на чьи границы и ни с кем не воюет; кроме того, он здесь гость, а к гостям даже при самых диких нравах относятся с уважением, и уж наверняка это известно худосочному умнику с пастью, забитой табачной жвачкой. Или он прикидывается глупцом? — И выплюньте наконец эту пакость.
Поручик ухмыльнулся. Паяц!
— Это на всякий случай. Меня кинет в жар, затрясет, а вы закричите, что я умираю. Может, тогда они поймут, что переборщили. Вы вот не верите в парадоксы, и зря: я впаду в беспамятство, а они опомнятся.
Да, он не верит в парадоксы, он вообще не верит ни единому слову поручика — очень уж все это смахивает на шутовство, если не на безумие, — однако главное уловил: их жизнь под угрозой. Здесь происходит нечто, чего он не предусмотрел. На чашу весов поставлены чьи-то кровожадные интересы. Возможно, через секунду мир полетит в тартарары, и о нем никто не вспомнит, даже графиня, видимо запертая в одной из комнат наверху, еще более беспомощная, чем он. Нельзя, ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки в ожидании чуда.
Джакомо внимательно осмотрелся. Есть же отсюда еще какой-нибудь выход. Погреб не тюрьма, он предназначен всего лишь для хранения капусты. И увидел: высоко над головой на сером фоне потолка более темный квадрат — вероятно, плотно закрытый люк. Должно быть, осенью через него в подвал сбрасывают капусту, а потом уже шинкуют и квасят в бочках. И наверняка где-то лежит широкая деревянная доска, по которой скатываются кочаны, — он видел такие в Германии у богатых крестьян, которым предлагал — и небезуспешно — картофельную рассаду. Но этого чуда не произошло — доски не было. Бочки. Если поставить одну на другую, а сверху еще одну… надо попробовать. Казанова поднатужился, но бочка не шелохнулась. Ничего не выйдет.
— Помогите, — отдуваясь, машинально пробормотал он; ясно было, что и вдвоем бочку не сдвинуть, но его раздражала безучастность поручика. — Посмотрим, не удастся ли выбраться этим путем.
Офицер не двинулся с места:
— К сожалению, не могу вам помочь. Это бы противоречило принципам, о которых я упоминал. Нарушать их я не собираюсь. Как военнопленный, ни сам не могу бежать, ни вашему побегу способствовать. Желаете знать почему?
— Нет! — рявкнул Джакомо, задохнувшись от ярости. — Вот ты, значит, какой!
И приблизился к офицеришке, если не сказать, подлетел, словно бочка его толкнула.
— Вставай!
— Предупреждаю: я буду вынужден закричать.
— Попробуй — мои принципы не столь непреклонны. Встать!
Властный ток Казановы заставил поручика вскочить Нафаршированный сигарой и чувством долга, он готов был снести даже оплеуху, но Джакомо отстранил его и взял моток веревки, на котором тот сидел.
Веревка местами совершенно истлела, да и вообще не казалась прочной, однако, если ее распутать и, выбрав куски покрепче, связать их… пожалуй, есть кое-какая надежда. Утяжелив один конец двойным узлом, Джакомо влез на бочку с капустой, размахнулся и… началось! Веревка категорически не желала цепляться за крюк, торчавший из стены под самым люком. Она извивалась, моталась по всему подвалу, яростно хлестала по потолку, свистела над головой, а когда все-таки повисла на крюке, Джакомо сам неосторожным движением ее сдернул. Потом, правда, он своего добился — оба конца были у него в руках, — но к тому времени так измучился, что пришлось довольно долго ждать, пока вернутся силы и он сможет попробовать взобраться наверх. Офицер будто ничего не замечал: отвернувшись, созерцал испещренную потеками стену.
Однако, когда Казанова приготовился к решающему прыжку, протянул к нему скрещенные руки:
— Свяжите меня. Иначе я должен буду вам помешать.
Джакомо сочно выругался, обрушил многоэтажную грязную тираду, какой не постыдился бы самый отпетый венецианский головорез, на веревку, которой пришлось связать поручика, и напоследок самое страшное проклятие шепотом всадил ему в рот вместе с кляпом из оторванного подола рубашки. Только теряет из-за этого идиота драгоценное время!
И вот он наверху; еще минута неуверенности и даже страха, потому что от первого толчка крышка не поддалась, но Джакомо, собрав все силы, повторил атаку, и крышка дрогнула и приоткрылась на ширину ладони. Если секунду назад он ясно видел себя падающим на бочки и даже чувствовал боль от удара, то теперь уже не сомневался в успехе. Люк вел в темную каморку — слишком темную, чтобы ее могли хоть сколько-нибудь разумно использовать. Дверца в стене оказалась закрытой на железный засов, но Джакомо нащупал другую, незапертую; оставалось только повернуть ручку… Он взялся за нее и замер: за дверью были люди, он услышал шаги, шум передвигаемых предметов, наконец отчетливые мужские голоса. Разговаривали двое, по-немецки. Дьявол! Опять ему кто-то заступил дорогу. В отчаянии опустился на пол. Пока эти двое не уберутся, ему не уйти. Они такой шум подымут, что весь полк Зарембы бросится за ним вдогонку. В погреб он не вернется, хотя караульный может в любой момент обнаружить его исчезновение; ни за что не вернется — хватит с него кислой капусты и российских поручиков, сыт по горло.
Внезапно Джакомо услыхал свое имя. Говорят о нем. Невероятно! Приложил ухо к двери. Да, это так. Он превратился в слух, но о чем идет речь, понял не сразу.
Вначале послышался смех — отрывистый, злобный. И знакомый голос тощего купца — это он смеялся:
— Черт, похож, конечно… на бритую обезьяну.
Второй голос возразил обиженно, хотя и несмело:
— Его же там никто не знает. Не нравится, сам нацепляй на себя эту пакость.
Что-то с шуршанием упало на пол.
— Ладно, ладно. Придется купить новый, не станет же такой щеголь ходить в парике не по размеру. Ну-ка покажись. Пройдись немного, свободней, раскованнее, выше голову, грудь вперед.
— Башмаки жмут.
— Вот и хорошо, поменьше шаги будешь делать.
Второй голос, принадлежащий, очевидно, тому ворюге, которого Джакомо недавно застукал роющимся в его кофре, вдруг сорвался на крик:
— Нет, пустое дело! Ничего не получится.
— Должно получиться. — Голос первого звучал решительно. — Это приказ.
Приказ. Слово не из купеческого лексикона. Как и манера говорить. Как и негромкое: «Так точно» — в ответ, и щелканье каблуками тех самых, слишком тесных, башмаков. Покорность второго заставила первого сбавить тон: