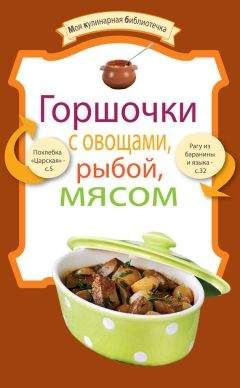Эдуард Эттингер - Аттила России
— В разные камеры, конечно? — улыбаясь, спросила Голицына.
— О, разумеется!.. Но синьора Габриелли так взбесилась, что кинулась на инфанта с кулаками, чуть не выцарапала ему глаза и даже обозвала «gobba maledetto» — проклятым горбуном. За это инфант лишил ее горячей пищи, и в течение целой недели нашей «примадонне ассолюта» пришлось просидеть на воде и хлебе с пармезаном.
— Боже, какой ужас! — вскрикнули слушательницы. — А затем он сжалился и, конечно, выпустил ее?
— О, нет, горбуны злобны и мстительны. С помощью веревочной лестницы, доставленной Катарине одним из многочисленных поклонников, она бежала из тюрьмы через окно и благополучно добралась до границы. Вскоре, как вам известно, она получила приглашение прибыть в Петербург, где с ней заключили контракт пока на три месяца.
— А сколько ей платят жалованья?
— Когда она за три месяца запросила пять тысяч дукатов, то государыня в удивлении воскликнула: «Но такого жалованья я не плачу даже своим фельдмаршалам!» — «Ну, что же, — ответила синьора Габриелли, — вашему величеству остается только заставить петь своих фельдмаршалов!»
— Браво! Браво! — закричали фрейлины.
— Императрица улыбнулась и согласилась на потребованный гонорар. Князь Потемкин, присутствовавший при этом, пришел в восхищение и забылся до того, что воскликнул: «А, ей-Богу, мне эта женщина нравится!»
— И эти слова были искреннее, чем могут показаться с первого взгляда, — сказала княгиня Голицына. — Люди, хорошо осведомленные, рассказывали мне, что светлейший серьезно обратил на диву свой единственный глаз, так что Катарина…
— Императрица! Императрица! — сдержанным шепотом пронеслось по зале.
Обойдя присутствующих и милостиво поговорив с каждым, государыня подозвала к себе Паизиелло, чтобы спросить, как он чувствует себя при дворе и нравится ли ему вообще в России.
Паизиелло был не только отличным музыкантом, но и опытным «лукавым царедворцем». Поэтому он легко и искусно сделал из своего ответа целый панегирик царствованию «великой императрицы, покровительницы искусств и матери-благодетельницы своих подданных», дни которой да продлит Господь.
— К сожалению, милейший маэстро, — ответила Екатерина II, — не все думают так же, как вы. Находятся люди, и их немало, которые ждут не дождутся моей смерти, а не дождавшись, ищут какого-нибудь случая насильственно пресечь мои дни!
— Но это не люди, это чудовища! — с патетическим негодованием воскликнул маэстро. — Простите мне эту дерзость, ваше величество, но я прямо не в состоянии верить, что такие люди существуют!
— А между тем это так, — ответила Екатерина Алексеевна, и в ее взоре мелькнуло что-то скорбное, страдальчески-измученное…
V
Опасения, высказанные государыней в разговоре с Паизиелло, день и ночь терзали ее неотступным призраком; чем старше становилась она, тем все больше и больше опасалась покушений на свою жизнь, заговоров, бунта. Это было всецело следствием той запугивающей тактики, которую вел по отношению к ней Потемкин. Ему приходилось несколько опасаться за свое собственное положение, так как из сердца императрицы его вытеснил Петр Васильевич Завадовский. И вот, чтобы казаться незаменимым, нужным, светлейший пускался на довольно темные дела: он сам сочинял заговоры и предупреждением и раскрытием таковых заслуживал высочайшую милость.
Но в последнее время его ничто не радовало. Потемкин впал в продолжительную хандру, которая так часто терзала его.
Главной причиной этих терзаний были воспоминания о Бодене, трагически окончившей свои дни в подмосковном сумасшедшем доме. В первое время после того, как он получил известие о ее смерти, Потемкин довольно легко отнесся к этой потере, даже больше — он облегченно вздохнул, словно с него свалился тяжелый гнет каких-то чар.
Но однажды он нечаянно забрел в ту часть своей картинной галереи, где были развешаны портреты Бодены во всех видах, позах и костюмах, до костюма нашей прародительницы Евы включительно; и при виде этих портретов его сердце резануло мучительное лезвие скорби, и он снова очутился во власти прежних чар, еще более тяжелых, еще более властных, еще более безнадежных…
Сначала Потемкин хотел сжечь эти портреты, чтобы отогнать навсегда всякое воспоминание о чаровнице-цыганке. Но у него не хватило сил на это, и отчаяние, раскаяние, сожаление всецело завладели им.
Когда он увидел Катарину Габриелли, то что-то в ее голосе своими интонациями удивительно напомнило ему Бодену. Он стал присматриваться к артистке и увидел, что и в характере примадонны было много общего со смуглянкой-ведьмой: та же необузданность, та же прямолинейность, доходящая до дерзости, то же упрямство, задор…
Кончилось тем, что Потемкин стал серьезно ухаживать за дивой, что и подметил острый взгляд княгини Голицыной.
— Не могу вам описать, синьора, как мучительно-сладко мне слушать ваш голос! — сказал Потемкин, идя однажды с певицей по зале к своей картинной галерее. — Когда вы начинаете петь, в моей душе встают воспоминания о былом счастье, навсегда скрывшемся для меня… И мне хочется закрыть глаза и только слушать, слушать вас, слушать ваш дивный голос…
— А знаете ли, ваша светлость, что это — далеко не комплимент для меня! Неужели я настолько некрасива, что вам хочется слушать меня с закрытыми глазами?
— Вы хороши, как день!
— О, это тоже не комплимент, потому что и дни бывают в высшей степени отвратительными… в особенности здесь, в этом проклятом Петербурге…
— Вы не только хороши, но и поразительно умны и находчивы!
— То же самое твердил мне постоянно проклятый горбун, герцог Фердинандо Пармский!
— Которому, как говорит молва, синьора Катарина Габриелли изменяла?
— О, и сколько раз еще! Говоря откровенно, я совершенно не в состоянии быть верной поклоннику — кто бы он ни был! — долее трех месяцев. Говорю это для того, чтобы серьезно предостеречь вас, ваша светлость, от увлечения мною: все равно и вам, князь, я изменю так же, как и всякому другому. Это у меня в крови, ничего не поделаешь!
— Как очаровательна в вас эта откровенность, синьора!
— Разрешите мне преподать вам хороший совет? — вдруг спросила дива.
— Пожалуйста, ангел мой.
— Вам следует полюбить мою сестру Анну. Она так же красива, как я, немного моложе и много глупее, так что, пожалуй, в силу последнего способна хранить верность!
— Просто готов взять да расцеловать вас!
— Ну, нет, с этим вам придется подождать, князь! Так скоро дело не делается: я привыкла подвергать своих поклонников серьезному испытанию!
— Я готов, синьора, испытывайте!
— В состоянии ли вы, ваша светлость, принести мне маленькую жертву?
— Даже большую, если понадобится!
— Великолепно! В таком случае подарите мне тот очаровательный пейзаж, который висит вот там! — и Габриелли своим изящным и тонким розовым пальчиком показала на картину.
— Да ведь это — Гоббема!
— Какое мне дело до фамилии художника? Мне нравится картина, только и всего!
— Еще бы не нравиться! Я лишь недавно заплатил голландскому купцу двадцать тысяч полновесных гульденов за нее!
— Ну что же из этого? Однажды утром мой горбатый возлюбленный подарил мне в вознаграждение за мою нерушимую верность бриллиантовое колье ценностью в сто тысяч франков.
— Он был просто идиотом, только и всего!
— Я тоже так подумала. Но женщинам, а в особенности нам, бедным артисткам, гораздо более по душе щедрый идиот, чем скупой гений.
— Через два часа картина будет у вас на квартире! — воскликнул Потемкин.
— Доказательство, что вы и не идиот, и не скупы. Вас бы я могла любить!
— Но не долее, чем три месяца?
— Признаться — да! Я больше всего на свете люблю разнообразие. Вечно видеть около себя одного и того же человека — Господи, да этого достаточно, чтобы получить мигрень и зубную боль!
— Так вот что: давайте условно заключим контракт на три месяца.
— Условно? Ну а потом?
— А потом мы можем продолжить его на тот же срок, если только вы, разумеется, не воспротивитесь этому!
— По рукам! — с комической серьезностью воскликнула шаловливая дива.
— Приезжайте ко мне ужинать сегодня вечером, и мы переговорим о деталях нашего контракта.
— К сожалению, ваша светлость, это совершенно невозможно.
— Но почему?
— Потому что сегодня вечером французский посол маркиз де Жюинье, ужинает у меня.
— В таком случае разрешите приехать и мне к вам!
— О, нет, я не люблю никакого совместительства. Да и к чему? Нет, нет, завтра после театра.
— Я буду ждать вас!
— Я приеду, — пообещала Габриелли.
Катарина сдержала свое обещание. С того времени она стала признанной возлюбленной светлейшего. «Примадонна ассолюта» получила в подарок великолепно обставленный дом, и, кроме того, Потемкин давал ей пять тысяч рублей в месяц на булавки.