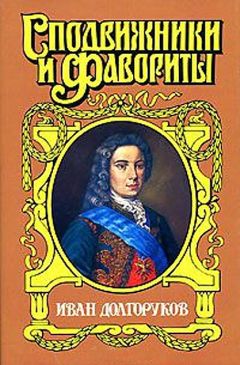А. Сахаров (редактор) - Елизавета Петровна
Ответ отца через Остермана стал известен противной партии, и вот к отцу пожаловал – это было уже после приезда императрицы в Москву – князь Григорий Барятинский, приглашая его явиться вместе с прочими верноподданными дворянами во дворец и обратиться там к государыне с челобитной об уничтожении кондиций и принятии неограниченного самодержавия, как правили отцы и деды. Но и Барятинскому отец дал тот же ответ, опять-таки решительно отказавшись вмешиваться в дела правления.
Приняв самодержавие, императрица обрушила кары на вожаков партии старой знати. Главным образом пострадали Голицын и Долгорукие, причём больше всего доставалось наиболее богатым. Это вполне понятно: в то время казна была пуста, а имущество ссылаемых и казнимых конфисковывалось. Поэтому не мудрено, если ухитрились нарядить следствие даже над отцом, обвиняя его в сообщничестве с Голицыным. Ведь отец с его крупным состоянием был очень лакомым куском!
Хотя Григорий Барятинский и лез вон из кожи, показывая на следствии всякие небылицы, но мой отец сослался на Остермана, в присутствии которого дал ответ Голицыну, отказываясь вмешиваться в «царёвы дела». Невиновность отца была уж очень очевидна, его осуждение могло только пошатнуть в глазах всей русской знати юный трон. Пришлось объявить его невиновным и даже обласкать. Но мой отец хорошо знал цену этой ласке. Не вдаваясь в обман, он стал исподволь принимать меры, чтобы иметь возможность в нужный момент скрыться за границу. Была куплена небольшая яхточка, которая стояла готовой к отплытию невдалеке от нашего дома на Крестовском. Все имения, которыми отец владел совместно с братом Алексеем Петровичем в Московской, Киевской и Смоленской губерниях, перешли на льготных условиях в собственность дяди. Наличные деньги были переведены в заграничные банки. Разумеется, всё это пришлось делать очень осторожно, чтобы не навлечь подозрений.
Обласкав отца, императрица в то же время пожелала, чтобы он оставил свой затворнический образ жизни и стал появляться при дворе, для чего назначили его камергером. Как ни неприятно было это отцу, но пришлось подчиниться… Собственно говоря, я до сих пор не понимаю, что заставляло отца продолжать жить в России, да ещё и в Петербурге, когда имелась полная возможность вовремя укрыться за границу…
– Гм! – несколько смущённо крякнул старик.
– По крайней мере, каждый раз, когда я спрашивала его об этом, он только крякал в ответ, вот совершенно как сейчас! Думаю также, что не одна забота обо мне заставляла держать меня в монастыре, хотя мне и было уже за двадцать лет. Судя по всему, тут дело было не без романа!
– Гм! – снова крякнул Очкасов. – Ты уж того…
– Но в мою судьбу вмешались высшие силы. Однажды императрица Анна Иоанновна напрямик спросила отца, что заставляет его держать за границей взрослую дочь, и приказала немедленно вызвать меня в Петербург, так как она желала зачислить меня в придворный штат принцессы Анны Леопольдовны.
Отец был очень удивлён, не понимая, как могла узнать императрица о моём существовании, тщательно скрываемом от всех. Но ослушаться было нельзя. И вот немедленно были приняты меры к доставлению меня из Парижа.
Как ликовала я тогда! Мне шёл двадцать первый год – это было в 1735 году, – а я всё ещё не знала жизни иначе, как из книжек. Правда, читала, я много и упорно, но чем больше погружалась в чтение, тем пламеннее тянуло меня в широкую жизнь.
Не буду говорить вам, как я была разочарована с первых же моих шагов в России. Всё казалось мне диким, грубым, странным. В Париже мне приходилось бывать в семье де Нейлей, видеть там весь цвет аристократии, и то, что я встретила теперь как при дворе, так и в русских семьях, казалось мне чудовищным и ни с чем не сообразным. Русская дикость тесно сплотилась с немецкой грубостью. Грязь, неряшливость, уродливый, необузданный разврат, ханжество, грубость обращения – было от чего с ума сойти!
Семнадцатилетняя принцесса Анна Леопольдовна приняла меня на первых порах очень равнодушно. Это вообще очень вялая особа, и даже нередко под видом нездоровья она отказывалась идти к столу, так как ленилась умыться. Но вялость и лень не мешали ей быть капризной и жестокой: за малейшую провинность она колола булавками своих камеристок.
Если принцесса относилась ко мне сначала равнодушно, зато её наушницы, главным образом Адеркас и Менгден, сразу возненавидели меня и старались, чем можно, отягчить моё существование. Тем сильнее привязалась я с первой же встречи к принцессе Елизавете, которая подошла ко мне, спросила мою фамилию, сказала, что отлично знает и любит моего отца как верного слугу великого преобразователя, и тут же нежно обняла меня и расцеловала. Она прибавила, что с удовольствием зазвала бы меня к себе, чтобы поговорить о её «милой Франции», но она боится навлечь на меня неприязнь «большого двора». Вообще, при всём дворе царевна была самой очаровательной, самой привлекательной личностью. К сожалению, она появлялась довольно редко, и не всегда мне удавалось побыть с ней.
Тут я подхожу к сложному клубку, обвившему мою жизнь. У принцессы Анны Леопольдовны была открытая связь с саксонским посланником, графом Карлом Морицем Линаром. Кроме императрицы, решительно все знали об этом, а герцог Бирон даже покровительствовал парочке. Делал он это по злобности: он рассчитывал женить на принцессе своего сына, а когда это не удалось, то глубоко возненавидел жениха принцессы, принца Антона. Заметив зарождающуюся любовь к Линару, Бирон опытной рукой повёл интригу и не успокоился, пока не кинул Анну Леопольдовну в объятия красавца-посла, который отличался крайней неразборчивостью в любовных делах.
Трудно, даже невозможно спокойно и последовательно передавать то, что так близко и болезненно касается самой себя. Я должна скомкать окончание своего рассказа и представить его вам в виде вывода.
Бирон и Линар принялись подстерегать меня в разных укромных уголках и преследовать выражениями своей любви. Линар из какого-то непонятного молодчества осмеливался даже любезничать со мной на придворных балах на глазах у всех. Это вооружило против меня Анну Леопольдовну, а против Линара – герцога.
Как я узнала потом, клевреты донесли герцогу, что Линар устраивает свидания в саду с какой-то фрейлиной, лицо которой не успели разобрать. Бирон вообразил, что эта тайная дама сердца посла – я. Однажды – это было весной 1735 года – герцог на придворном балу увёл меня в дальнюю гостиную, где пал передо мной на колени и стал умолять меня полюбить его, обещая за это все блага мира. Я страшно перепугалась, молила его встать и не губить меня, однако он ничего не хотел слышать и, словно безумный, целовал мне руки. Наконец мне удалось вырваться. Не зная, как избавиться от герцога, я крикнула, что паду к ногам её величества с просьбой защитить меня от наглого преследования.
Надо было видеть, как изменилось лицо Бирона! Он сейчас же встал, скрестил руки на груди и, сильно побледнев, сказал:
– Не советую! Гнев её величества обрушится только на вас же, и мне, право, будет жалко, если такая прелестная головка скатится с плеч под ловким ударом палача! Но я знаю, кого вы предпочли мне! Ну погодите же! Вы увидите, какой монетой умеет платить Бирон за оскорбление! А теперь дайте мне вашу руку и вернёмся в зал. Потрудитесь не делать таких трагических гримас!
Словно ни в чём не бывало Бирон повёл меня обратно, весело и непринуждённо разговаривая. Я силилась улыбаться, но это плохо удавалось мне.
Бирон тут же приказал особенно тщательно следить за каждым шагом Линара. На беду, в этот вечер после бала у посла было назначено свидание с самой Анной Леопольдовной. Герцогу донесли, что посол тайно прокрался с кем-то в беседку. В полной уверенности, что это – я, Бирон пригласил нескольких человек пойти вместе с ним полюбоваться, как развлекаются русские аристократки, притворяющиеся неприступными и целомудренными. Дозор окружил беседку, герцог с приглашёнными ворвался туда, осветил факелами лица влюблённых и… отпрянул в большом смущении, увидев вместо меня принцессу Анну Леопольдовну. Позы застигнутых были слишком красноречивы, количество любопытных свидетелей достаточно велико. Затушить скандал оказалось уже невозможным. Линара удалили от двора и приказали немедленно уехать обратно в Саксонию.
Все видели, что перед этим я имела на балу довольно оживлённый разговор с герцогом, и принцесса Анна прямо обвинила меня в том, что я вывела Бирона на след. Это мнение особенно поддерживала в принцессе госпожа Адеркас, которую тоже прогнали обратно в Швейцарию. Нечего и говорить, что теперь ненависть принцессы ко мне дошла до сверхчеловеческих пределов. Она не постеснялась кинуть мне в лицо тягчайшие упрёки и жесточайшие оскорбления, перемешанные с угрозами.
Зная горячий нрав отца, я не хотела посвящать его на первых порах в свою беду, а решила поговорить сначала с царевной Елизаветой. Мне удалось тайно пробраться к ней, но, когда я раскрыла рот, чтобы начать говорить, то у меня вырвались рыдания пополам со смехом, и всё это закончилось глубоким обмороком. Принцесса Елизавета встревожилась, крикнула своего врача Лестока, и оба они принялись хлопотать надо мной.