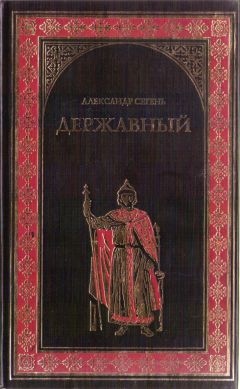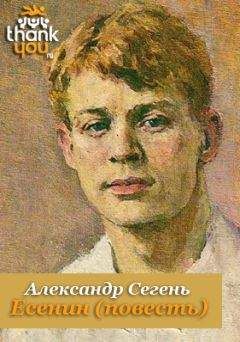А. Сахаров (редактор) - Николай I
– Одно только скажу вам, друзья мои: если я буду в действии, то и у нас явятся Бруты, а может быть, и превзойдут тех революционистов, – вдруг начал и не кончил, сконфузился.
– Какой же план восстания? – спросил Голицын.
– Наш план такой, – ответил Рылеев. – Говорить против присяги, кричать по полкам, что Константина принудили и что отказ по письму недостаточен, пусть манифестом объявит, а лучше сам приедет. Когда же полки возмутятся, вести их прямо на площадь.
– А много ли будет полков? – полюбопытствовал Батенков.
– А вот считайте: Измайловский весь, Финляндского батальон, московцев две роты, лейб-гренадеров тоже две роты, морской экипаж весь, кавалерии часть, а также артиллерии.
– Не надо артиллерии, холодным оружием справимся! – опять выскочил Булатов.
– Успех несомнителен! Успех несомнителен! – закричали все.
– Ну а что же мы будем делать на площади? – спросил Оболенский.
– Представим Сенату манифест о конституции, а потом прямо во дворец и арестуем царскую фамилию.
– Легко сказать: арестуем. Ну а если убегут? Дворец велик, и выходов в нём множество.
– Недурно бы достать план, – посоветовал Батенков.
– Царская фамилия не иголка: когда дело дойдёт до ареста, не спрячется, – рассмеялся Бестужев.
– Да ведь мы и не думаем, чтобы одним занятием дворца успели кончить всё, – продолжал Рылеев. – Но если государь бежит со всею фамилиею, довольно и этого: тогда вся гвардия пристанет к нам. Надобно нанесть первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию. Помните, друзья, успех революции в одном слове: дерзай! – воскликнул он и, подобно развеваемому ветром пламени, весь трепетно-стремительный, лёгкий, летящий, сверкающий, так был хорош в эту минуту, как никогда.
– Вы, молодые люди, о русском солдате никакого понятия не имеете, а я его знаю вдоль и поперёк, – заговорил штабс-капитан Якубович, худощавый, смуглолицый, похожий на цыгана, с чёрной повязкой на голове простреленной, «кавказский герой». – Кабаки разбить – вот с чего надо начать, а когда перепьются как следует, – солдаты в штыки, мужики в топоры, – пусть пограбят маленько; да красного петуха пустить, поджечь город с четырёх концов, чтоб и праху немецкого не было, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви да крестным ходом во дворец, захватить царя, огласить республику – и дело с концом!
– Любо! Любо! Вот это по-нашему! К чёрту всех филантропишек! – закричал, забушевал князь Щепин. – Скорее! Скорее! Утра ждать нечего! Сию же минуту, немедленно!
Вскочил – и все повскакали, как будто и вправду готовы были бежать, сами не зная, куда и зачем.
– Что вы, господа, помилуйте! Куда же теперь, ночью! До объявления присяги солдаты не двинутся. И разве не видите, Якубович шутит?
– Нет, не шучу. А впрочем, если вам угодно за шутку принять… – усмехнулся Якубович двусмысленно.
– Нет, друзья, подвизаясь к поступку великому, мы не должны употреблять средства низкие. Для чистого дела чистые руки нужны. Да не осквернится же святое пламя вольности! – заговорил опять Рылеев, и мало-помалу все приходили в себя, утихали, опоминались.
В уголку, у печки, за отдельным столиком, уставленным бутылками, сидели Кюхельбекер[43] и Пущин.
Коллежский асессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, русский немец, издатель журнала «Мнемозина», молодой человек, белобрысый, пучеглазый, долговязый и неуклюжий, как тот большой вялый комар, который называется караморой, – по собственному признанию, «ничего не делал, как только писал стихи и мечтал о будущем усовершенствовании рода человеческого»; не был даже членом Тайного общества, зато участвовал в ином тайном обществе – Московских любомудров, поклонников Шеллинга.
Надворный судья Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина, его старинный собутыльник, «ветреный мудрец», по слову поэта, имевший слабость к вину, картам и женщинам, покинул блестящую военную карьеру и поступил маленьким чиновником в уголовный департамент Московского надворного суда, чтобы доказать примером, что можно приносить пользу отечеству и в самой скромной должности, распространяя добрые чувства и понятия. «Маремьяна-старица», «Мать-Софья-о-всех-сохнет» – эти лицейские прозвища очень подходили к доброте его, хлопотливой, неутомимой и равной ко всем. Какой-нибудь спор двух старых лавочниц у Иверской о мотке ниток выслушивал он с таким терпением, как будто шла речь о деле государственной важности.
Кюхельбекер с Пущиным вели беседу о натурфилософии.
– Абсолют есть Божественный Нуль, в коем успокаиваются плюс и минус, идеальное и вещественное. Понимаете, Пущин?
– Ничего не понимаю, Кюхля. Нельзя ли попроще?
– А проще – так. Натура есть гиероглиф, начертанный Высочайшею Премудростью, отражение идеального в вещественном. Вещественное равно отвлечённому; вещественное есть тоже отвлечённое, но только разрозненное и конечное. Понимаете?
Пущин глядел на него глазами слегка осоловелыми – выпил лишнее – и слушал с таким же вниманием, как тех двух лавочниц у Иверской.
Отставной армейский поручик Каховский, с голодным, тощим лицом, тяжёлым-тяжёлым, точно каменным, с надменно оттопыренной нижней губой и глазами жалобными, как у больного ребёнка или собаки, потерявшей хозяина, расхаживал из залы в кабинет, всё по одной и той же линии, от печки к окну, туда и назад, однообразно-утомительно, как маятник.
– Будет вам шляться, Каховский, – окликнул его Пущин.
Но тот ничего не ответил, как будто не слышал, и продолжал ходить.
– Вещественное и отвлечённое – одно и то же, только в двойственной форме. Идея сего совершенного единства и есть Абсолют. Искомое условие всех условий – Безуслов. Ну, теперь поняли? – заключил Кюхельбекер.
– Ничего не понял. И какой же ты, право, Кюхля, удивительный! В этакую минуту думаешь о чём! Ну а завтра на площадь пойдёшь?
Каховский вдруг остановился и прислушался.
– Пойду.
– И стрелять будешь?
– Буду.
– А как же твой Абсолют?
– Мой Абсолют совершенно с этим согласен. Брань вечная должна существовать между добром и злом. Познанье и добродетель – одно и то же. Познанье есть жизнь, и жизнь есть познанье. Чтобы хорошо действовать, надо хорошо мыслить! – воскликнул Кюхля и, неуклюжий, нелепый, уродливый, но весь просветлевший светом внутренним, был почти прекрасен в эту минуту.
– Ах ты, мой Абсолютик, Безусловик миленький! Цапля ты моя долговязая! – рассмеялся Пущин и полез к нему целоваться.
– Напрасно смеяться изволите, – вдруг вмешался Каховский. – Он говорит самое нужное. Всё пустяки перед этим. Если стоит для чего-нибудь делать революцию, так вот только для этого. Чтобы можно было жить, мир должен быть оправдан весь! – наклонившись к Пущину, поднял он перед самым лицом его указательный палец с видом угрожающим, потом выпрямился, круто повернулся на каблуках и опять зашагал, зашатался, как маятник.
Было поздно. Казачок Филька давно уже храпел, неестественно скорчившись на жёсткой выпуклой крышке платяного ящика в прихожей, под вешалкой. Гости расходились. В кабинете Рылеева собралось несколько человек для последнего сговора.
– А ведь мы, господа, так и не решили главного, – сказал Якубович.
– Что же главное? – спросил Рылеев.
– Будто не знаете? Что делать с царём и царской фамилией – вот главное, – посмотрел на него Якубович пристально.
Рылеев молчал, потупившись, но чувствовал, что все на него смотрят и ждут.
– Захватить и задержать их под стражею до съезда Великого Собора, который должен решить, кому царствовать и на каких условиях, – ответил он наконец.
– Под стражею? – покачал головою Якубович сомнительно. – А кто устережёт царя? Неужели вы думаете, что приставленные к нему часовые не оробеют от одного взгляда его? Нет, Рылеев, арестование государя произвело бы неминуемую гибель, нашу или гибель России – войну междуусобную.
– Ну а вы-то сами, Якубович, как думаете? – вдруг заговорил всё время молчавший Голицын. Давно уж злил его насмешливый вид Якубовича. «Дразнит, хвастает, а сам, должно быть, трусит!»
– Да я что ж? Я как все, – увильнул Якубович.
– Нет, отвечайте прямо. Вы задали вопрос, вы и отвечайте, – всё больше злился Голицын.
– Извольте. Ну, вот, господа, если нет других средств, нас тут шесть человек…
Каховский, продолжая расхаживать, вошёл в кабинет и, дойдя до окна, повернулся, чтобы идти назад, но вдруг опять остановился и прислушался.
– Нет, семь, – продолжал Якубович, взглянув на Каховского, – Метнёмте жребий: кому достанется – должен убить царя или сам будет убит.
«А может быть, и не хвастает», – подумал Голицын, и вспомнились ему слова Рылеева: «Якубовича я знаю за человека, презирающего жизнь свою и готового ею жертвовать во всяком случае».