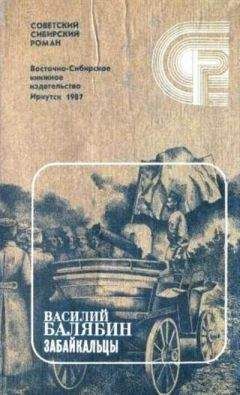Василий Балябин - Забайкальцы, книга 2
Новое дело — поставки — доставило Савве Саввичу немало хлопот. Два дня носился он по селу как угорелый, вечером второго дня, сидя за ужином, жаловался Семену:
— От ног отстал за эти дни. Должников много, а пользы от них как от козла молока. Пятнадцать бойщиков насилу набрал. К кому ни сунься — то дома нету, то хворь его подхватила, лежит на печи. Лодырь народ. Брать все умеют, а отработать — и нос в сторону. Из-за вагонов на станцпю дорогу проторил, насилу уладил. Теперь ишо осталось бойню устроить, да можно и тово… начинать.
Семен, кончив обгладывать баранью кость, вытер руки полотенцем, спросил;
— Где ее будешь устраивать, бойню?
— На заимке хочу, там будет лучше. И скот на месте, и овец Дор-жишка туда же пригонит.
— Так ведь под мясо-то еще амбар надо. Того, который там есть, не хватит.
— Обойдемся и так. Мясо будем замораживать и складывать поленницей под навес. То же самое и овчины и кожу. Лежать ему долго не придется, закончим побойку — и сразу же тово… начнем возить его на станцию, лошадях на пятнадцати. Отправить на бойню Лукича хочу, мельника. Мужик он толковый и, значит, тово… на все руки мастер. Завтра мы с ним на заимку поедем: он зачнет бойню оборудовать, а я посмотрю, как молотьба идет.
Утром следующего дня, когда над далекими зубчатыми сопками на востоке чуть забрезжил рассвет, Савва Саввич с Лукичом уже выезжал за околицу села. Подмораживало крепко, поэтому оба оделись по-зимнему: на Савве Саввиче поверх дубленого полушубка доха из барловых козлин, на голове шапка-ушанка из лисьих лап с голубой лентой на макушке. На Лукиче старая, с заплатами на груди и рукавах овчинная шуба, а шапка на нем из черной мерлушки.
Совсем рассвело, когда выехали за поскотину, и правивший лошадью Лукич свернул с летнего проселка на недавно промятый кем-то зимник. Рыжий жеребец, не дожидаясь кнута, резво мчал небольшую кошевку.
В этом году снег выпал вскоре после Дмитрия-рекостава, да такой глубокий, что сразу же установился санный путь. Дорога пролегла серединой широкой пади, по обе стороны которой тянулись заснеженные елани и сопки. Тишина, словно все живое уснуло под белым, пушистым покровом, даже кошевка не скрипит, бесшумно, как по маслу, катится по не прикатанной еще зимней дороге.
Савва Саввич, уже посвятивший Лукича в свои планы, сидел к нему вполуоборот и, откинув ворот дохи, продолжал зудеть свое:
— Ты уж, Лукич, постарайся, чтобы все, значит, тово… по порядку шло, как я тебе рассказал, чтобы разрублено мясо было по правилам, и штоб чистое, и все такое. Выполнишь все хорошо — и от меня тово… обижен не будешь.
Лукич, очень польщенный тем, что Савва Саввич оказывает ему такое большое доверие, так и цвел в горделиво-радостной улыбке.
— Сав Саввич, да рази ж я, господи… да я для тебя в лепешку расшибусь…
— Як тому, Лукич, што народ-то у нас никчемный: и украсть мастера, и всякую подлость учинить, и кожу могут испортить, и мясо опачкать в крови, штоб досадить хозяину, мало ли чего. Так што за ними глаз да глаз надо…
— Это уж, Сав Саввич, будь покоен. Все будет в лучшем виде, не беспокойся. Мне, брат, такое дело не впервые, у самого Разгильдеева в десятниках ходил на Карийских промыслах… — И Лукич принялся рассказывать Савве Саввичу о том, как в молодости пришлось побывать ему на Каре, об ужасных порядках и жестокости начальства которой ходило в народе много страшных рассказов.
На заимку приехали перед восходом солнца. Привязав коня к пряслу, Лукич следом за хозяином отправился в зимовье. Шли широким проулком, по одну сторону которого расположились вместительные, крытые соломой стайки, по другую — открытые дворы, обнесенные изгородью из жердей, куда скот загоняли на день для кормежки.
Не доходя до зимовья, Савва Саввич остановился, хозяйским взором окинул свои владения. Всходило солнце. Сначала от него порозовела вершина, потом вся ближняя к зимовью сопка, елань, а вот уже и крыша зимовья и белая поляна за воротами заискрились под солнечными лучами, словно усыпанные алмазами. На сеновале так и загорелся, как будто вспыхнул зеленым пламенем, омет остречного[7] сена, а на гумне, откуда доносилась гулкая дробь ручной молотьбы, зазолотился ворох сегодня намолоченной пшеничной соломы.
Лукич, залюбовавшись картиной зимнего утра, проговорил со вздохом:
— До чего же хорошо здесь у тебя, Сав Саввич!
— Угу, — мотнув головой в ответ, промычал Савва Саввич. Его интересовало другое: скот, заполнивший четыре двора. В ближнем, маленьком дворике находились телята, среди которых выделялись три годовика симментальской породы, крупные, упитанные, черно-пестрой масти. Полюбовавшись ими, Савва Саввич перевел взгляд на дойных коров, которых знал всех по мастям, отыскал глазами свою любимицу буренку.
— Вот она, матушка, где, — вслух проговорил Савва Саввич и, обернувшись к Лукичу, пояснил — Это про корову я. Во-он бурая-то, возле прясла стоит. Во, голову подняла, однорогая, видишь?
— Вижу.
— Хор-рошая, братец ты мой, коровка. Ведерница, и што ни год, то теленок. Да-а… бычки все от нее родятся, а охота тово… телку дождать, да такую, штобы в мать пошла.
В этом дворе, в черно-пестром месиве скота, мелькали двое под-ростков-работников в рваных шубенках. Проворно орудуя деревянными вилами, они задавали скотине корм, раскидывали по дворам сено и овсяную солому. Работы у подростков вдоволь, надо весь скот накормить, вовремя напоить, вычистить в стайках, приготовить к ночи подстилку.
«Ребятишки, видать, тово… боевые», — подумал про них Савва Саввич и снова заговорил с Лукичом, показывая рукавицей на быков:
— Вот бычки-то, Лукич, эти дадут мясца.
Старики постояли еще немного, определили место для устройства бойни, подальше от дворов, и лишь после этого отправились в зимовье.
ГЛАВА XV
Жарко топилась русская печь. Настя и молодая, бойкая работница Акулина сидели в кути на лавке, чистили к обеду картошку. В зимовье прибрано по-хозяйски, земляной пол застелен ржаной, хрустящей под ногами соломой. Стол, стены, нары промыты, проскоблены дожелта, глиняная печь и кутняя стена чисто побелены, на дощатой полке разложена посуда: глиняные миски, деревянные ложки, туески и чумашки из бересты. На нарах вдоль стен рядком уложены свертки потников, шубы — постели работников.
Тут же на нарах играл пятилетний Егорка, вылитый Егор Ушаков: такой же нос, подбородок, такие же светло-русые, слегка вьющиеся волосы и голубые глаза. Разложив вокруг себя бабки и самодельные игрушки: маленькие саночки, тележки, деревянные лошадки — все это ему смастерил по вечерам Ермоха, — мальчик так увлекся игрой, что и не заметил вошедших в зимовье стариков. Лишь когда Савва Саввич заговорил, мальчик оторвался от игры, сел спиной к печке и, прижимая к себе деревянное ружье, с любопытством уставился на вошедших широко открытыми глазами.
Старики перекрестились на висевший в кутнем углу образок Николая-угодника, поздоровались. Савва Саввич распоясался, снял с себя полушубок и, обрывая с бороды ледяные сосульки, обратился к Насте:
— Чайку бы нам, Настасья, горяченького, посогреться с дороги-то, да калачиков мороженых, шанежек крупяных.
Настя поднялась с лавки, вытерла руки фартуком.
— Садитесь, чай сейчас будет, чугунка вон ключом вскипела. Акулина, сходи-ка за хлебом в кладовку, мяса принеси да молока кружок. — И к старикам: — Вам какого чаю-то?
— Да уж карымского бы, Федоровна, сливанчику, — попросил Лукич, — люблю сливанчик. Ты как, Сав Саввич?
— Можно и сливанчику, я тоже им частенько балуюсь.
— А мой отец, покойник, царство ему небесное, жеребчика любил до старости. Накалит, бывало, в печке камней доала — и бултых их в кастрюлю с холодной водой, вскипятит таким манером и чай засыплет. И такой получится жеребчик, прям-таки пьешь — больше хочется.
— Пивал жеребчика и я, приходилось.
— Всякого попили чайку, Сав Саввич, а теперь вот только у тебя ишо и водится он, а в лавках-то шаром покати — ничего не стало. Мы со старухой и скус чайной забыли, чагу пьем. И все это из-за войны этой, трижды клятой.
— Ничего не сделаешь, Лукич, терпеть надо. Садись.
Старики уселись за столом, Савва Саввич завел разговор о предстоящей побойке, Лукич соглашался с ним, поддакивал, а сам украдкой поглядывал на Настю. «Хороша бабочка, прям-таки малина, — думал он, поглаживая тощую бороденку, — вот муженьком-то ее бог обидел, да-а».
Изменилась за эти годы Настя: повзрослела, стала полнее, степеннее, и от всей ее ладной, крепкой фигуры веяло здоровьем и деловитой домовитостью. И хотя лицо Насти по-прежнему было кровь с молоком, на лбу ее уже пролегла первая упрямая бороздка, а в карих задумчивых глазах накрепко затаилась печаль. Никто не знает, не ведает, сколько слез пролила она в бессонные ночи, когда от Егора полгода не было писем. Лишилась тогда Настя аппетита, истомилась вся, похудела, белый свет стал не мил, из рук валилась всякая работа.