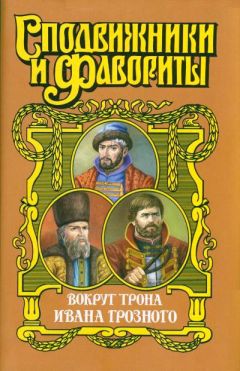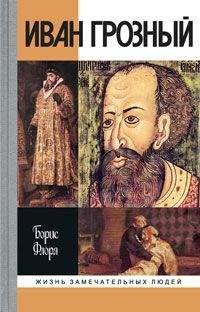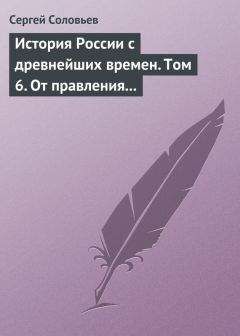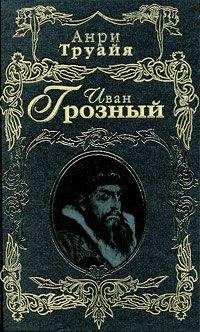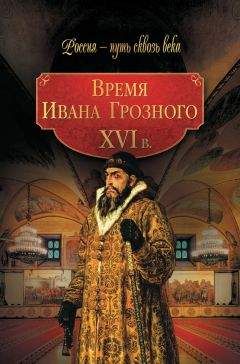Валерий Полуйко - Лета 7071
— Не встать тебе боле, Фролка. Чуешь, не встать.
Фролку везли на санях через всю Москву. Как положили его в сани со скрюченными на груди руками, поджатыми ногами и запрокинутой головой, так и застыл он на морозе.
Плотницкие и артельщики понуро брели следом за санями. Еле передвигая ноги, угрюмый и озлобленный, брел Сава. Не совесть донимала его, а злость и досада — злость и досада, что не устоял Фролка против Рышки, что теперь на все бока будут поносить его, Саву, и больше всех, даже больше Рышки, винить в смерти Фролки.
Из дворов выбегали дети, бабы, выковыливали старухи — слух уже разнесся по Москве, и теперь всяк спешил удостовериться в услышанном. Шли вслед за санями, причитали, охали, заглядывали в окаменевшее Фролкино лицо, будто хотели что-то высмотреть под его мертвенной бледнотой.
— Выла собака надысь — к земле головой…
— Вот уж истинно: воет к земле — быть покойнику.
Сава с трудом переносил это любопытствующее сострадание. Не бойся он нажить дурную славу и ненависть к себе, напустился бы он на всех этих причетчиков с матом и бранью, разогнал бы их по дворам да пустил коней рысью, чтоб не собирать возле саней никого. Ни артельщики, ни плотницкие не затрагивали Саву — шли чуть поодаль от него, молчали. Только поп Авдий настырно шагал рядом с Савой и время от времени скорбно, но твердо выговаривал:
— Отпою, яко царя!
Рышка поставил в церкви святого Фрола на Мясницкой алтынную свечу за упокой убиенного им раба божьего Фрола и отправился с повинной в Разбойный приказ.
Дьяки посадили его на цепь, а в приказе ударили в било — сзывали свидетелей.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Из Великих Лук прискакал к Марье брат — Михайло Темрюк, посланный царем с наказом узнать о ее здоровье и передать ей от него оловянный нательный крестик. Этот крестик в пору своей первой беременности носила мать Ивана — великая княгиня Елена. Оберегала она им своего первенца и свято верила после, что он потому и удался таким крепким и здоровым, что благодаря этому крестику был избран богом, сохранен и отмечен им. Верил и Иван в чудодейственную силу этого крестика. Посылая его теперь Марье, как когда-то Анастасье, Иван надеялся, что бог обратит свой взор и на его наследников, даст им сильную душу и крепкий разум, чтобы могли они продолжить его род и его дело.
Темрюк прискакал в Москву в полдень, Часа три дожидался, пока Марья поднимется с постели, сидел в задней брусяной избе и потягивал вино, а когда был позван, явился изрядно пьяным, угрюмым и опять потребовал вина.
Марья не допустила его к руке, но вина приказала подать.
Темрюк уселся на полу под стенкой — на ковре. Между ног кувшин с вином, в ленивых уставших глазах не то тоска, не то злоба… Недалеко от него, на маленькой узенькой лавчонке примостился дворецкий — боярин Захарьин. По московским обычаям царица не могла оставаться одна в своей спальне даже с родным братом.
В спальне было светло. В двух серебряных шандалах горела дюжина свечей. Сладко пахло расплавленным воском, вином и шафраном.
Молчали — как будто не замечали друг друга. Темрюк угрюмо потягивал из кувшина вино, Марья растерянно перекладывала из руки в руку крестик, не зная, что с ним делать: то ли надеть на себя, то ли отложить в сторону, а Захарьин с доброй улыбкой, но внимательно следил за ними, будто сторожил их.
Захарьин был стар, но еще крепок и бодр. При всей своей доброте и ласковости он оставался хитрым и ловким царедворцем, обладал тонким умом и спокойным правом, без которых трудно жить и распоряжаться в царском дворце.
Царь любил его, доверял. Любил его и простой московский люд: слободчане, посадские, торговые люди, за которых он всегда радел перед царем. Зато бояре, особенно княжата, лютой ненавистью ненавидели его, как, впрочем, и весь род Захарьиных, которые, как только породнились с царем, стали настраивать его против бояр и думы. Однако, как ни изощрялись бояре и княжата в своей ненависти к Захарьиным, он никогда не использовал свою близость к царю для мести им. Быть может, благодаря этому и заслужил искреннее и неизменное уважение Ивана.
Поладил Захарьин и с Марьей, хотя та довольно ревниво относилась к его родству с покойной Ивановой женой, и братья ее Темрюки тоже не больно жаловали его, но сносили, терпели, зная царское к нему расположение.
Темрюк и сейчас уткнулся в кувшин только потому, что в спальне сидел Захарьин. Не будь его, Михайло нашел бы о чем поговорить с Марьей. Теперь же молчал — и назло Марье, и назло Захарьину, только Захарьина не больно задевало молчание Темрюка — привык, да и знал, что рано или поздно станут Темрюки искать с ним дружбы, оттого что не они, а он стоит близко к царю.
Марья же сейчас больше думала о крестике, чем о своем непутевом братце, а это еще сильней раздражало Темрюка.
— Надень! — сказал он глухо и поморщился. — Государь будет недоволен, ежли ты воспротивишься.
Марья надела крестик на шею — осторожно, словно ее сдерживал какой-то страх. Глаза ее будто расплылись по всему лицу, она напряженно уперлась руками в лежащие вокруг подушки и долго сидела так, неподвижная и отрешенная. Отсветы свечей ложились на ее лицо, усиливали его бледноту, отчего оно становилось прозрачным, почти невидимым, словно растворившимся в теплой белизне света. Только глаза проступали сквозь бледность — большие, чуткие, как два насторожившихся пса.
— Сумрачишься, государыня?! — тихо сказал Захарьин.
Темрюк хмуро, из-за плеча скосился на него.
Марья будто не услышала слов боярина — осталась неподвижной и отрешенной.
— Печалишься, что за русского царя пошла?! — снова сказал Захарьин. — В Шемаху иль Турцию, поди, сносней было б?.. — Голос его был мягким и осторожным. — На Руси оно суетное — житье.
— Недобрые твои слова, боярин, — спокойно проговорила Марья. Рука ее легла на грудь, прикрыла крестик. Она опустила голову, с хрипотцой — от сухоты в горле — договорила: — С царем я богом соединена. Негоже мне сетовать на божий приговор. А душа моя с его душой срослась: ему больно — мне больно.
— И то верно, — обрадованно вздохнул Захарьин. — Не изволь гневаться… Может, и пустое сболтнул, да твоей бабьей чести сие не ущербно.
— Царица она! — закипел Темрюк.
— Царица — все едино баба, — ласково и примирительно сказал ему Захарьин.
— И сестра мне! — еще яростней выкрикнул Темрюк, хватаясь за кинжал.
— Не затевайте распрь! — недовольно бросила Марья.
— Не злись, княжич, — все так же ласково и примирительно сказал Захарьин. — Пошто нам, будто собакам, один на одного скалиться?!
— Марью не обижай! Царица она!
— Ее мы любим… Анастасья, та добра была, а царица никудышняя.
— Помру, и про меня тако скажете! — кольнула Марья боярина острым взглядом.
— За ум почитаем тебя.
— Коль баба я, какой у меня ум?
— Аглицкая королевна — також баба, а государством своим вон како правит! Баба бабе — рознь. Анастасия все по монастырям ездила, молилась, бога умилостивляла. Ан не дал он ей жизни… Померла…
— Слыхала, ядом ее опоили?!
— Может, и ядом, — спокойно ответил Захарьин. — Доподлинно сие не ведомо.
Свечи оплыли, стали короче… Свет не доставал уже до потолка, и оттуда посвисли густые лохмы теней; окна пугающе поблескивали — черным, как будто чьи-то пронзительные, злобные глаза. Откуда-то лезли шорохи…
Марья плотней завернулась в широкую шелковую накидку, глухим, сдавленным голосом проговорила:
— Страшно… Враги кругом! Яду подсыпят… Змею пустят… Страшно!
— Страхом врагов не укротишь! — обронил Темрюк.
Марья смолчала.
Захарьин задумался… Вспомнил он, с какой мучительностью уступал Иван Анастасьиной добродетели. Мрачнел, озлоблялся, но уступал: не хотел раздоров в своей семье, не хотел, чтоб еще и жена затаила на него недовольство.
Не раз пытался Захарьин уговорить Анастасью не лезть со своей бабьей жалостью в Ивановы дела, да где там! — и слушать не хотела. До самой смерти связывала ему руки своей благодетельностью и, умирая, просила не быть злым и несправедливым. Обещал он ей — умирающей, но выполнить своего обещания не мог. Быть добрым и справедливым — значило отказаться от всего, что задумал он, что хотел сделать и утвердить своей волей и властью. А задумал он много… Видел Захарьин, как широко замахнулся он, порешительней деда и отца взял власть.
Теперь Иван был волен в своих намерениях и поступках. Ни один из них, как бы жесток и безрассуден ни был, не вызвал бы в Марье осуждения или несогласия.
Захарьин почувствовал на себе Марьин взгляд; Марья в упор смотрела на него, словно ждала чего…
— Шепни царю: верными людьми пусть окружит себя, — сказал Захарьин, твердо глядя в ее глаза. — Не родовитыми, не богатыми, чтоб, окромя благополучия царского, не было у них иной заботы.